Внимание!
Военная система Раймондо Монтекукколи

П.С. Не стоит сосредотачивать внимание на обложке, это ИИ. Лучше на тексте, это - РЕ.
@темы: Изданное, Раймондо Монтекукколи
Доступ к записи ограничен
Доступ к записи ограничен
Доступ к записи ограничен
Pourvu que sa valeur nous rende glorieux ?
Его подвиги предсказывал главный оракул всех времен и народов, Великий Конде хвалил его глазомер, а Людовик 14 порицал безрассудную отвагу, злые языки называли его просто везучим генералом, а добрые – «величайшим военачальником Франции со времен Тюренна и Конде», Суворов - «славным воином», Наполеон – «вором», а сам он скромно величал себя то «шарлатаном», то «единственным генералом, которому на войне не изменяло счастье». Это Клод Луи-Эктор де Виллар, "маршал удачи", обессмертивший свое имя в последних кампаниях войны за Испанское наследство.
читать дальшеВо Франции про него написали уже как минимум пять обстоятельных биографий [1], и мы остановимся подробнее на самой новой –
Fadi El Hage. Le Maréchal de Villars : L'Infatigable Bonheur. Belin, 2012.
Этот историк уже был представлен нами в очерке про Вандома. Напомним, что Эль Аж защитил большой диссер по маршалам Франции. Книгу про Виллара, как признавался сам автор, он сварганил в период подготовки диссертации. Опус на скромные 200 страниц предсказуемо лишен деталей боевых действий, изложение подчас сбивчивое и не лишено самоповторов; есть и явное и злоупотребление пространными цитатами из писем и мемуаров.
Более подробный рассказ мы находим в книге
François Ziegler. Villars, le centurion de Louis XIV. Paris, Perrin, 1996.
Это беллетризованная биография, также основанная на источниках, в т.ч. архивных, и уже с цельной картиной военных событий и картами (впрочем, пара карт есть и у Эль Ажа), которую мы также ненавязчиво рекомендуем. Две этих биографии разделяют всего 16 лет, и как по-разному представлен в них наш герой – если для Зигле это «colosse à la superbe sans faille» и «digne successeur de Turenne», то Эль Аж куда более критичен, а в некоторых эпизодах вообще выступает махровым ревизионистом. Оно и неудивительно: неоднозначные, подчас полярные точки зрения на моральные, командирские и иные качества Виллара сложились еще при его жизни и нашли яркое художественное выражение в трудах Сен-Симона (в целом негативный образ) и Вольтера (позитивный).
Согласно первому, Виллар, «несмотря на всю свою ловкость, беспримерное счастье и занимаемые им высочайшие государственные посты, оставался лишь странствующим комедиантом, а по большей части — просто ярмарочным фигляром». Сен-Симон также выделял у Виллара «безмерное, не брезгающее никакими средствами честолюбие, очень высокое мнение о своей особе…; безмерную низость и постоянную готовность пресмыкаться перед тем, кто мог быть ему полезен, при полной неспособности любить, отвечать услугой на услугу и испытывать благодарность…».
Ну и куда же без «облико аморале»: «Завсегдатай спектаклей и кулис, он не гнушался непристойным общением с актрисами и их воздыхателями, каковое не оставлял до самой глубокой старости, опозоренной его прилюдными постыдными речами. Его невежество, …его глупость в делах была совершенно непостижима в человеке, на протяжении столь долгих лет причастном к делам первейшей государственной важности. Он терял нить рассуждений и был не в состоянии найти ее…»
«Он отнюдь не чуждался интриг. Лестью и низкопоклонством он сумел завоевать сердце Короля, а низменной и на все готовой покорностью ее воле —сохранить благосклонность мадам де Ментенон».
«У него была одна забота — сохранять свою власть и влияние, а то, что ему самому надлежало видеть и делать, он перекладывал на плечи других».
И, наконец, одна из самых серьезных предъяв: «Имя, кое, благодаря неизменно сопутствовавшей ему удаче, он стяжал себе на долгие времена, нередко отвращало меня от истории» (Сен-Симон. Мемуары. 1701-1707. М., 2016; пер. М.В. Добродеевой)
Вольтер же был лично знаком с маршалом и проникся уважением: «Je défends le maréchal de Villars, non parce que j’ai eu l’honneur de vivre dans sa familiarité dix années consécutives dans ma jeunesse, mais parce qu’il a sauvé l’Etat». По случаю успеха «Эдипа» состоялось такое взаимное восхваление:
Виллар: La nation vous doit beaucoup d’obligations…
Вольтер: Elle m’en devrait bien davantage, Monseigneur, si je savais écrire comme vous savez agir.
Почтительное отношение к Виллару прослеживается и в «Веке Людовика 14», и хвалебных стихах. Вольтер включил Виллара в «великолепную семерку» военачальников Людовика 14, наряду с Тюренном, Конде, Люксембургом и др.
Regardez, dans Denain, l’audacieux Villars
Disputant le tonnerre à l’aigle des Césars,
Arbitre de la paix que la victoire amène,
Digne appui de son roi, digne rival d’Eugène.
Впрочем, достижение быть «достойным соперником» самого Евгения Савойского говорит скорее о большей славе принца и его признании как великого полководца. Виллар все так же остается в тени своих соперников Мальборо и Ойгена, и память о нем, если выйти за пределы Франции, сводится к образу смелого, презирающего оборону «генерала вперед». «Он представляет собой динамичную и наступательную тенденцию во французском военном мире, которая противостояла рутине осад и операций, застывших на барьере» (Даниэль Рош). Похожее мнение сложилось у А.В. Суворова, которому сии качества явно импонировали: «Суворов отменно почитал Тюрення и Катината, и как я их однажды назвал корифеями между французскими полководцами, Суворов сказал «Это справедливо; но насчет смелости и проворства, прибавь еще к ним и Виллара» (Ф. И. Вернет).
Вот и наш современник, признанный военный историк Джон Линн, посвящая свою книгу о войнах Луи внуку, пожелал оному быть умнее Вобана и отважнее Виллара… Размышляя о степени крутости маршалов воинствующего Солнца, Линн заключал: «на момент своей смерти он (маршал Люксембург) казался самым одаренным лидером Людовика XIV. Хотя были и другие талантливые капитаны — маршалы Катина и де Буффлер, например, — Король-Солнце не нашел другой военной звезды, пока Виллар не вышел из толпы во время войны за Испанское наследство». Действительно, после смерти в 1675 г. своего лучшего полководца Франция мучительно долго искала нового Тюренна (см. работы Эль Ажа). Годы шли, а он все не находился. Люксембург – близко, но не Тюренн. Катина – не сдюжил. Вандом – в какой-то момент, казалось, что да, но потом стало ясно, что нет. Виллар, как кажется, оказался ближе всех, хотя бы даже по титулу главного маршала лагерей.
Французские историки разделили воевод Людовика 14 на несколько поколений; Виллар принадлежит к последнему, в целом менее талантливому, чем предыдущие, ибо фавор «заменил ценность в назначениях, и именно так обычно объясняют французские катастрофы 1704-1708 годов. Правда, Франсуа де Нёфвиль, второй герцог Вилльруа, герцог Таллар, граф Марсен или герцог Ла Фейяд вряд ли блистали своим военным гением. Но этим зачастую некомпетентным генералам не следует забывать о решающих успехах Луи-Эктора Виллара (1653-1734), герцога Вандомского или, в меньшей степени, герцога Бервика, карьера которых продолжалась вплоть до Войны за польское наследство" (Сэна Жан-Филипп. Король-стратег: Луи XIV и руководство войной (1661-1715). Ренн, 2010).

«Ce jeune homme-là voit clair !»: начало геройств, или Три дара господина Виллара-отца
Виллар родился в мае 1653 в Мулене в семье Пьера Виллара и Мари Жиго Бельфон. Род его происходил из Лиона, аноблирован был сравнительно недавно – еще прадед Виллара числился эшевеном. На основании каких-то документов тот убедил чиновников, что его предки были дворянами, и получил (т.е. «вернул»!) соответствующий статус. Наш герой, Виллар, зайдет еще дальше и будет видеть предков в магистре Гийоме де Вилларэ (13-нач 14 вв) и маршале Франции Онорате Савойском, маркизе де Виллар (16 век), но на это так никто и не поведется.
Пьер Виллар по молодости фрондерствовал, участвовал в 2 битвах Конде против Тюренна, какое-то время укрывался в Вене, потом раскаялся, получил прощение и дослужился до генерал-лейтенанта. Семейная традиция будет называть неприязнь Лувуа к Пьеру как главную причину приостановки его карьеры. Тем не менее, возвышение отца в чинах было достаточно существенным, чтобы Клод Луи-Эктор начал службу не где-нибудь, а в Версале как паж Гранд Экюри, а затем – как мушкетер Военного дома короля.
«L’héritage qu’il reçoit de ses parents… est mince, quelques arpents de majgre garrigue, mais aussi un joli visage qui lui sert à la Cour pour s'y faire remarquer…», утверждал Жерар Лезаж. Но главным даром Пьера своему сыну станет покровительство мадам де Ментенон, полусекретной жены Людовика 14. Пьер имел счастье подружиться с ней, очевидно, еще до ее стремительного взлета, и она сыграет колоссальную роль в карьере нашего героя.
Какое-то время Виллар пользовался протекцией своего родственника по матери маршала Бельфона, но тот после участия в «заговоре маршалов» 1672 (против полномочий Тюренна) навлек на себя опалу и впредь ограничился раздачей советов.
Виллар в мемуарах силился продемонстрировать, как Людовик довольно рано стал выделять его. Например, следующий свой чин – корнета шволежеров во все том же Военном доме – он уже якобы лично попросил у самого короля. А тот возьми и дай. Луи де Гайя считал чин корнета "прекрасным и почетным для молодого человека, который начинает заниматься кавалерийским ремеслом и хочет этому научиться" (Гайя здесь не имел в виду конкретно нашего героя). Во том же 1672-м Виллара бросали и в Голландию, и на Рейн к Тюренну, и в Испанию с особой миссией. В следующем году он заработал репутацию сорвиголовы, показав удаль при Маастрихте и вложив в уста Людовика похвалу:
- Il semble, dès que l’on tire en quelque endroit, que ce garçon sorte de terre pour s’y trouver.
В 1674 он в числе других охочих людей находился в армии Великого Конде во Фландрии и даже поучаствовал в битве при Сенефе. В своих мемуарах Виллар выставляет себя советником легендарного полководца. «Когда все было готов к атаке, большинство генералов, видя большое движение во врагах, думали, что они бегут». Конде, если верить Виллару, только и ждал, что подскажет двадцатилетний юнец. Далее произошел диалог, достойный быть оформленным на манер пьесы – столько в нем драматургии.
Виллар: Ils (враги) ne fuient pas, ils changent seulement d'ordre.
Конде: Et à quoi le connaissez-vous ?
Виллар: C’est à ce que dans le même temps que plusieurs escadrons paraissent se retirer, plusieurs autres s’avancent dans les intervalles et appuient leur droite au ruisseau dont ils voient que vous prenez la tête, afin que vous les trouviez en bataille
Конде: Jeune homme, qui vous en a tant appris ? (И, глядя на тех, кто был с ним) Ce jeune homme-là voit clair.
Великий Конде отдал приказ Монталю атаковать Сенеф, а в дальнейшем сам возглавил атаку эскадронов. Виллар был рад увидеть легенду с оружием в руках.
В 21 год он стал уже лагерным метром в régiment de cavalerie de Courcelles. В битве при Сент-Омере пытался убедить Шамле, что надо развить успех на левом фланге. Под командованием Креки участвовал во взятии Фрайбурга. Он ожидал повышения до бригадира, но Голландская война как назло кончилась, и пришлось ждать следующей.
«Je ne suis pas un trop bon subalterne»: долгая дорога к маршалату
Виллар не скучал без войны: «он франт, пьет больше, чем разумно, цитирует Плутарха девицам и громит веселые и оперные арии со своими товарищами по выпивке» (Зигле). Ментенон выбила для Виллара важную дипломатическую миссию в Вену – принести соболезнования по случаю смерти матери Императора и заодно переманить баварского курфюрста Максимилиана Эммануила на сторону Солнца. Виллару удалось понравиться курфюрсту настолько, что это дало повод для постыдного злословия… Курфюрст распознал в нем родственную душу: «Соблазнение между двумя мужчинами сработало … удачно, …[и] Макс-Эммануэль предложил французу присоединиться к нему в Мюнхене» (Зигле). Не отставая от Максимилиана, Виллар вместе с ним отправился на войну против турок и даже участвовал в махаче при Мохаче в 1687. Через год он снова послан к курфюрсту, но встревоженная Вена потребовала отсылки француза. Тот вынужден уехать, хлопнув дверью на прощанье.
В перерыве меж двумя этими вояжами Виллара ждал сюрприз: Лувуа, враг его семьи, внезапно встал на путь примирения. Разгадка проста: Лувуа понял, кто «крыша» у Виллара, и не хотел столкновения с этой мадам. Виллар, пользуясь случаем, попросил должность главного (генерального) комиссара кавалерии. И получил. Во главе французской кавалерии в ту эпоху стояла триада «главный полковник – главный лагерный мэтр – главный комиссар» [2]. У этих господ имелись соответствующие полки, официально возглавлявшие полковую кавалерийскую иерархию; вилларов полк, стало быть, шел третьим по старшинству, а сам Виллар, как и двое других, имел право командовать «des corps de cavalerie» когда ему заблагорассудится. Позднее он продаст эту должность за приличную сумму.
В том же 1688, в преддверии новой европейской свары, спровоцированной Солнцем, Виллар получил наконец чин бригадира – он ждал его более 10 лет. Одни историки (как и наш Эль Аж) признают этот чин генеральским, другие считают первым генеральским все-таки лагерного маршала. Самому Виллару вряд ли бы пришел в голову такой вопрос, тем более что всего через 1,5 года он стал лагерным маршалом, а через 3 – и вовсе генерал-лейтенантом.
В войне Аугсбургской линии Виллара активно перекидывали по 4 армиям – из Фландрии на Рейн, с Рейна - в Италию и обратно. Из крупных битв, правда, ему посчастливилось драться лишь при Лезе. Буффлер, Люксембург, Лорж, Катина были его непосредственными командирами; однако Виллар отнюдь не выказал радости служить под такими талантами. «Его Мемуары рисуют нелестные портреты его начальников» (Эль Аж). Например: "Маршал Люксембургский... [человек] большого ума и мужества, не имел полного прилежания, столь необходимого для таких важных дел, как вождение ратей... Поскольку военные планы мало его волновали , утверждалось, что выгода, кою можно было извлечь из большого успеха, ускользала от его ... внимания". Но Люксембургу еще повезло: маршала Шуазеля в походе 1697 Виллар вообще расписал как робкого полководца, прислушивающегося к советам своего гениального генерал-лейтенанта. Впрочем, и сам Виллар признавался, что был плохим подчиненным (любил командовать самостоятельно).
За 3 года до начала войны за Испанское наследство Виллар снова послан в Вену. «Villars ne disposait pas d’une grande autonomie d’action» (Зигле). Посланник отметился разве что скандалом, когда бывший гувернер эрцгерцога Карла (а впоследствии князь Лихтенштейн) выгнал Виллара с придворного бала. Оказалось, что Виллара не было в числе приглашенных, что не помешало изгнанному дипломату возмутиться и добиться в итоге извинений. Как подметил Эль Аж, по возвращении в Париж в 1701 всех трех французских послов из ключевых для Франции стран (Англия, Испания, Австрия) только Виллар не удостоится никакой награды; и был, разумеется, этим серьезно задет. В своих мечтах он видел себя уже маршалом…
Начало новой большой войны ознаменовалось для Виллара привычными перетасовками из одной армии в другую: с Рейна его перекинули по просьбе Вилльруа в Италию (кстати, по пути туда Виллар разбил отряд генерала Мерси – теперь он точно «новый Тюренн»), чтобы на следующий год снова отправить обратно. Зимой 1702 48-летний Виллар поспешил жениться на 20-летней Жанне-Анжелике из рода Varangeville. Поспешил потому, что, как полагает Эль Аж, став в том же году маршалом, он понял: подождав немного, можно было бы найти более престижную невесту… Но кто ж знал! Луи-Эктор тут же потащил супругу с собой в поход – и отнюдь не страх долгой разлуки, а банальные муки ревности были тому причиной; и когда Людовик в один прекрасный день прикажет Виллару отослать из армии Жанну-Анжелику, это будет, пожалуй, одним из самых жестоких монарших наказаний.
В Рейнской армии Виллару не терпелось действовать – перейти Рейн на соединение с давним знакомым Максимилианом Эммануилом, баварским союзником Франции. Начальник Виллара, маршал Катина, тоже понимал необходимость соединения, но не счел его возможным. «Отказ этот побудил Виллара, коему сия переправа, буде она окажется успешной, сулила славу, согласиться [возглавить экспедицию за Рейн], ибо он был уверен, что ничем не рискует, если провалит операцию, от которой отказался Катина. Ему поручили командовать отдельной частью войск армии Катина» (Сен-Симон). Главная трудность состояла в том, что Рейн был на имперском замке…
«Ну что, Маньяк, все погибло?»: Фридлинген и миф о «солдатском маршале»
Гениальная завоевательная политика Луи-Солнца довела до того, что Франция, по окончании войны Аугсбургской лиги, утратила плацдармы для проникновения за Рейн, хотя еще в самом начале этой войны, взямши Филиппсбург, она контролировала все главные переправы. Прорубать окно в Германию приходилось заново, и это было задание со звездочкой – ведь переправы через реку охранялись врагами, и сам Людвиг Баденский исполнял роль вахтера на Рейне.
Но Виллар блестяще справился с задачей и обманным путем прорвался за Рейн у Гюнингена (Юненга). Людвиг Баденский тут же бросился на него с своим войском, в результате чего 14 октября 1702 приключилась битва при Фридлингене.
Это был дебют Виллара в качестве независимого командарма, и он вышел крайне неоднозначным. Дебютант сполна познал всю трудность управления войском в битве: французская пехота, отбросив неприятельскую, предалась грабежу, а кавалерия во главе с Маньяком (не прозвище, а имя собственное - Magnac), увлекшись погоней за разбитыми вражескими эскадронами, скрылась из виду. Казалось бы, победа, как вдруг имперские пехотинцы внезапно обрушились на своих французских мародерствующих коллег. Столь удачно начавшаяся операция грозила теперь обернуться катастрофой… Сен-Симон не мог отказать себе в удовольствии набросать портрет плачущего полководца в самый критический момент боя:
« Виллар, остававшийся у подножия горы и потерявший из виду всю свою кавалерию, которая в полулье от него преследовала кавалерию имперцев, уже решил, что сражение проиграно, и, окончательно потеряв голову, в отчаянье рвал на себе волосы, сидя под деревом, когда увидел мчавшегося к нему во весь опор Маньяка, первого генерал-лейтенанта этой армии… Тогда Виллар, не сомневаясь более в поражении, крикнул: «Ну что, Маньяк, все погибло?» Услышав его голос, Маньяк двинулся к дереву и, увидев Виллара в таком состоянии, изумленно уставился на него: «Боже! Что вы тут делаете? Откуда вы это взяли? Они разбиты, и все наше». Виллар тотчас же утер слезы и вместе с Маньяком помчался с победным криком к пехоте, которая сражалась с вражеской…»

Французу все же удалось привести в порядок свою пехоту; однако, как указывал Фекьер, имперская пехота хоть и отступила, но не была разгромлена. Тот факт, что Виллар не был уверен в своей победе, подтверждают его распоряжения на случай возобновления битвы на следующий день. Неоднозначный исход сражения позволил заказать исполнение Te Deum обеими сторонами. Однако Виллар послал такую реляцию, что Людовик на радостях решил наградить его: в ответном письме короля адресат удостоился обращения «мой кузен». Это означало, что Виллар стал обладателем маршальского жезла…
Здесь нельзя не упомянуть знаменитый эпизод провозглашения Виллара маршалом со стороны собственных воинов по окончании Фридлингенского боя. «Le marquis de Villars joignit sa cavalerie, qui le proclama, par des cris de joie, maréchal de France». Якобы после такого солдатского волеизъявления королю ничего другого не оставалось, как одобрить этот выбор. Эта красивая сцена давно стала обязательный штрихом в каждой биографии Виллара. Бдительный Эль Аж, как кажется, первым усомнился в истинности сей истории, целиком происходящей из вилларовых «Мемуаров»: «cette fable, popularisée par Voltaire qui avait lu le manuscrit en avant-première, est absurde». В качестве доказательства Эль Аж ссылается на отсутствие других свидетельств о провозглашении, равно как и нежелание Людовика идти на поводу у простых смертных в столь серьезном вопросе, как раздача жезлов. Не сказать, что это железные аргументы, зато можно согласиться с тем, что неопределенный исход боя плохо вяжется с проявлением подобного солдатского почина. Виллар, неутомимый самопиарщик, вполне мог пойти на выдумку ради подчеркивания солдатской любви к нему; на страницах своих воспоминаний он любил рисовать образ «слуги царю, отца солдатам».
«Je ne puis sauver l’armée du Roi que par une bataille, je ne laisserai pas échapper cette occasion»: Гохштедт №1
Фридлинген был лишь шагом к выполнению главной задачи осенней операции 1702 – соединению Виллара с курфюрстом. Цель достигнута не была – Максимилиан II Эммануил тянул резину, да и зима была на носу. А это означало, что через Рейн в следующем году придется прорываться заново!
Новую кампанию 1703 Виллар начал уже в качестве командующего отдельной армией, а его ближайшая цель – Кель, запирающий выход на правый берег Рейна у Страсбура. Виллар повел осаду как «un tacticien non conformiste» (Зигле), т.е. совершенно не «по-вобановски», за что ему «прилетело» и пришлось оправдываться. Взяв Кель в марте, Виллар затем... перешел Рейн обратно. Внезапно кунктатор, маршал не считал уместным соединяться с курфюрстом ранее мая. Для чего же надо было так рано открывать кампанию, дергать войска с квартир и осаждать Кель в конце февраля? В какой-то момент Людовик XIV потерял терпение и приказал Виллару или соединиться с баварцами, или атаковать Людвига Баденского, который угрожал Максимилиану-Эммануилу. Виллар объяснил королю свои затруднения (не хватает ружей, приходится вооружать пехоту пиками и алебардами), и тот отстал.
В мае соединение с баварцами все-таки состоялось. Но ни во что серьезное не вылилось. Все лето Виллар потратил на продвижение своего «наполеоновского» (avant la lettre) плана идти прямиком к Вене - так сказать, по старой памяти, - в то время как Макс II Эммануил больше беспокоился за свои владения. Дерзкий французский нападающий с собственным видением игры никак не вписывался в сугубо оборонительную тактическую схему курфюрста. Отношения между ними ухудшились.

В итоге, после бесплодных летних маневров франко-баварское войско вместо угрозы столице Габсбургов само оказалось под угрозой быть зажатым между двумя имперскими корпусами – Людвига Баденского и графа Штирума. Виллар, понимая всю опасность, решил выступить навстречу графу, рискнув битвой: «Я могу спасти королевскую армию только посредством битвы, я не позволю этой возможности ускользнуть».
Сражение развернулось 20 сентября при Гохштедте (Хёхштедте) и началось для французов за упокой – ошибка одного из французских генерал-лейтенантов, маркиза д’Юссона, в распознавании на слух происхождения пушечных выстрелов едва не привела к поражению. Маркиз ввел свои войска в бой раньше подхода главных сил, но прибывшим на место Виллару с курфюрстом все же удалось исправить ситуацию и закончить битву за здравие. Это был первый Гохштедт, франко-баварского производства. Через год союзники по антифр. коалиции выпустят свой римейк, куда более масштабный, с радикально переработанным сценарием.
Сразу после победы во французском штабе, по традиции, началась война реляций – проворный д’Юссон успел послать свой отчет чуть раньше, чем маршал. Разумеется, каждый тянул одеяло на себя. Виллар коварно отомстил: он ознакомил армию с реляцией маркиза (где тот превозносил себя в ущерб другим), и это привело к такой буре возмущения, что несчастный д Юссон, со слов Виллара, уже боялся выйти из жилища. И действительно: в присвоении лавров победителя тоже следует блюсти субординацию!
Совместная франко-баварская победа при Гохштедте не улучшила отношения маршала с курфюрстом. В конце концов, Виллар не вытерпел и попросил у Людовика своего отзыва. Он не знал, что в это время Макс Эммануил сам добивался от Версаля его удаления, поэтому красочно набросал в воспоминаниях, как курфюрст в слезах(!) пытался его удержать.
Желая оставить в деле толкового военачальника, Людовик предложил Виллару командование в Италии. Но тот отказался: может, не хотел иметь дела с Вандомом в качестве напарника и с принцем Евгением в качестве потенциального противника? Как бы то ни было, Виллар нарушил золотое правило «дают – бери», и король больше не стал ломать голову над привередливым воеводой: при распределении командований армиями на следующую кампанию Виллар не получил ничего. «Начало 1704 года наводило на мысль об опале» (Эль Аж). Временно безработный маршал был бы теперь рад и «подработке», и вскоре таковая подвернулась…
«Un empirique parmi les médecins ordinaires»: утомленные Солнцем, или Война по Нострадамусу
Гениальная религиозная политика Людовика-Солнца опалила чувства верующих (гугенотов) из числа крестьян и прочего люда в Севеннах, в провинции Лангедок, а не менее гениальная политика налоговая допекла их окончательно, что и спровоцировало восстание, вошедшее в анналы как «война камизаров». Среди лидеров выделялись пекарь Жан Кавалье и чесальщик шерсти Пьер Лапорт (взявший псевдоним Роллан) – они сменили свои профессии на пророков и выказали решимость «причесать» королевские войска.

Со слов Виллара, Людовик 14, отправляя его в Севенны, якобы приравнял успех в подавлении восстания к двум выигранным битвам. Стремление раздуть важность новой миссии подчеркивает и Сен-Симон: «Виллар, желая придать весу своему ничтожному назначению, с обычной для него наглостью шутливо заявил, что его посылают туда как знахаря, к чьим услугам прибегают, когда ученые эскулапы оказываются бессильны» (в оригинале концовка фразы: «qu'on l'y envoyoit comme un empirique où les médecins ordinaires avoient perdu leur latin», у сущ. «un empirique» есть еще значение «лекарь-шарлатан»). Действительно, к моменту назначения Виллара король уже поменял двух неудачливых «усмирителей», среди них – Монревель, тоже маршал Франции. Виллар понял, что Монревель переборщил с кнутом и что пекарям может прийтись по вкусу пряник. Он начал активно бороздить провинцию и толкать увещевательные речи. Всем мятежникам, кто сложит оружие в течение 8 дней, было обещано помилование. Маршал решил расколоть лагерь восставших и вступить в сделку с Жаном Кавалье. Тот согласился встретиться с Вилларом в Ниме. Встреча состоялась 16 мая, но, что примечательно, еще за 3 дня до нее Виллар написал мадам де Ментенон о скором завершении восстания и уже просил «скромное» вознаграждение – титул герцога…

Стрелка Виллара и Кавалье
На стрелке 16 мая Кавалье согласился завязать с бунтарством и стать полковником армии короля. И ему действительно дали чин (разумеется, в кавалерии, имя обязывало). Однако Роллан и большинство восставших отказались сложить вилы, так что новоявленный полковник Кавалье остался в меньшинстве. «Виллар был вынужден вернуться к старым рецептам Монревеля…» (Зигле). Маршал Франции, триумфатор при Фридлингене и Гохштедте, имел честь гоняться за толпами камизаров, сжигая попутно их деревни, надежды и… их самих, как это было сделано в отношении пойманного-таки Роллана (справедливости ради, тот был сначала убит; и только потом труп его был сожжен и выставлен для устрашения).
Самая острая фаза восстания осталась позади, и уже в декабре Виллар явился на собрание штатов провинции в статусе «усмирителя Севенн». В будущем он даже закажет картину сего торжественного момента, не гнушаясь хвастаться лаврами победителя пекаря и чесальщика шерсти…

А теперь пора раскрыть главную причину успеха маршала. Восстание было отмечено распространением религиозных предсказаний и активной деятельностью «пророков». Речь шла про тысячелетнее «царство равенства и братства» (про свободу, за ненужностью, забыли). Виллар решил противопоставить камизарам свой оракул и сразу зашел с козырей, т.е. с Нострадамуса… Маршалу донесли о пророчестве известного медика, согласно которому усмирить Прованс сможет тот, кто войдет в Бокер.
В «Сиксенах» есть такое проречение:
Восстанут самые удаленные уголки и провинции,
Над ними установят свое владычество могущественные Замки.
Снова войска нанесут удар,
Вскоре подвергнутся жестокой осаде,
Но получат большую помощь от великого,
Который войдет в Бокер (пер. В. Симонов)
Ничтоже сумняшеся, Виллар так и поступил: он вошел в Бокер 20 апреля 1704 г. Шах и мат камизаровым предсказамусам! Участь восстания была отныне предрешена… И хотя современники Виллара не знали, что «Сиксены» - это фальшивка, приписанная Нострадамусу, сбыться пророчеству сие пикантное обстоятельство никак не помешало…
Если же брать аутентичного Нострадамуса, то в Эпистоле для 1555 появляется уже никто иной, как… собственно наш герой:
La mer Tyrrhene, l'Océan par la garde
Du grand Neptun & ses tridens soldats.
Prouence seure par la main du grand Tende.
Plus Mars Narbon l’heroiq de Vilars
Тирренское море, океан для защиты,
Великий Нептун и солдаты его трезубца:
Прованс в безопасности благодаря руке великого Тенде,
Более Марса Нарбонну героический де Вильяр (пер. И. Гаврилов)
В книге Дж. Хоуга это типично туманное прорицание прямо соотнесено с восстанием камизаров в Севеннах, и под l’heroiq de Vilars легко угадывается маршал. Вот так один «знахарь средь обычных медиков» исполнил предсказание медика необычного
«Я – единственный генерал в Европе, которому не изменяло счастие в войне»: вдали от главного фронта
Позажигав в Севеннах, Виллар получил в награду от короля Орден, армию на Мозеле, а затем и титул герцога. 3 следующие кампании он проведет в вылазках за Рейн, прорывах очередных вражеских линий и наложении контрибуций, но в целом это будет «une défensive embarrassante», так ненавидимая маршалом, к тому же на второстепенном фронте.
Самой интересной могла бы стать кампания 1705, когда Мальборо опасно приблизился к войску маршала. Виллар занял тогда позицию, на которой англичанин не решился его атаковать. Встреча была отложена на 4 года. К этому же эпизоду относится очередной анекдот из мемуаров маршала о жутком смятении Мальборо: тот якобы признался Виллару через специально посланного трубача в своей безнадеге и свалил всю вину на своего союзника Людвига Баденского...
В 1706 Виллару снова предлагалось командование в Италии, взамен Вандома, но он отказался. Непоколебимое счастье Виллара уберегло его от туринской катастрофы, репутация удачливого полководца не пострадала. Смог бы он предотвратить Туринскую катастрофу? Верится с трудом, ибо к началу лета Вандом на пару с ля Фейядом наломали достаточно дров, чтобы не выпутаться: осада Турина уже началась, Евгений уже прорвался через Адиже…
В том же году Виллара осенила грандиозная стратегическая идея – соединиться с королем шведским. Европа, как известно дралась порознь: войны за Испанское наследство и Северная развивались параллельно. Виллар задумал присоединиться в Нюрнберге к Карлу XII, который был тогда в Саксонии. «Этот проект не понравился королю Швеции, который ответил уклончиво, хотя и с решительными комплиментами, сопровождавшимися отправкой своего портрета». Одно можно сказать: в случае объединения войск двух самых бесшабашных нападающих получилась бы команда с самой сильной атакой в Европе.
Помимо стратегических фантазий, Виллар находил время и для домашних дел. Новоявленный герцог поспешил обзавестись подобающим замком. Выбор пал на Vaux-le-Vicomte. Жаль только, расходы на сию жилплощадь и земли были так обременительны… Поэтому Виллар решил сделать ставку на контрибуции с тех немецких территорий, что удостоились чести принять в качестве гостей французские войска. Практика не новая: еще в 1703 году «армии Виллара в Германии удалось собрать значительные дани, которые составили более 40% потребностей его армии в деньгах! Собрать как можно больше контрибуций было почти единственной целью немецкой кампании Виллара в 1707 году» (Сэна Ж.-П.). Язвительный стих тому железное доказательство:
Villars a dit aux Allemands :
Ne craignez point le branle,
Car je n’en veux qu’à votre argent ;
Ainsi voyez s’il est comptant.
Людовику стали доносить о том, что предприимчивый маршал сильно преуспел в стремлении «откормить своего теленка» (т.е. замок; игра слов: «engraisser son veau» и «engraisser son Vaux»), но тот до поры отшучивался. Однако чрезмерный пыл Виллара при наложении контрибуций привел к угрозе, как считает Эль Аж, «compromettre le jeu diplomatique» в отношении Германии, вот почему в 1708 король перекинул его на еще более второсортный фронт, Альпийский.
«Servez-vous de moi, car je suis le seul général de l'Europe dont le bonheur à la guerre n'ait jamais été altéré. Dieu me conserve cette fortune» - «пользуйтесь мною, Государь, — я единственный генерал в Европе, которому военное счастье никогда не изменяло» (Энциклопедия Сытина). Эту знаменитую саморекламу Виллара своему королю обычно относят к периоду после подавления камизаров (почему-то он забыл про Мальборо, ЕС, Карла 12, Петра Великого и многих других, но это уже другой вопрос).
На самом деле тирада относилась не к концу 1704, а к 1708, была адресована не королю, а мадам де Ментенон, в письме, и звучала чуть иначе. Предыстория такова: Виллар командовал жалким по силе войском, прикрывающим альпийскую границу. Герцог Савойский благополучно оттяпал у французов несколько мелких крепостей, а маршал не смог этому помешать. Все это происходило на фоне очередного поражения французов от Мальборо и Евгения – при Ауденарде. Мадам де Ментенон спросила Виллара, как теперь обустроить дела во Фландрии. Последовал ответ: «Que Sa Majesté ait donc la bonté de voir à quoi je puis lui être utile. J'ai, grâces à Dieu, la meilleure santé du monde; les ennemis du Roy ont quelque sorte d'opinion pour moi, et je puis dire avec vérité que jusqu'à présent peut-être, je suis le seul général de l'Europe dont le bonheur à la guerre n'ait jamais été altéré. Peut-être aucun n'a vu tant de petites ni de grandes actions, et soit subalterne, soit général, grâces à la bonté de Dieu, j'ai toujours vu fuir les ennemis devant moi». Все же напрямую рекламировать себя королю Виллар не осмелился. Однако добился своего: его назначили командовать на главном фронте, во Фландрии, против самих Мальборо и Евгения. Изменит ли ему военное счастье с этими полководцами?
«Monsieur, contez qu'il est très dangereux pour les François d'estre attaquez…»: Мальплаке 1709, или Не погибнуть в обороне
Гениальная кадровая политика Людовика привела к тому, что пока его главной армией на главном фронте против главных противников (Мальборо и Евгения) командовали неспособные воеводы вроде Вилльруа, такие таланты, как Бервик и Виллар гонялись за мятежными крестьянами или стерегли альпийскую границу. Их мастерство и опыт в проведении маневров и баталий были достойны, естественно, лучшего применения, но королю-звезде понадобилось несколько лет звонких унижений французского оружия, чтобы осознать необходимость поменять критерии отбора кандидатов на вакансию «командарм» и избавить наконец войско от присутствия отпрысков правящей династии.
Виллару еще не приходилось командовать столь большой армией и тем более в такой труднейшей ситуации, выступая в роли «le général des situations difficiles», как говорят французы (Лезаж) или «пожарного», как говорят у нас. Нельзя сказать, замечает Эль Аж, что во французской армии во Фландрии назначение нового командарма вызвало единодушное одобрение. Зато мадам де Ментенон была довольна: «On a enfin un général qui a foi dans le soldat, dans la fortune de la France et en lui-même». Виллар столкнулся с проблемами снабжения, вызванными постигшим Францию на рубеже 1708/09 гг. жутким морозом, «grand hiver».
О чем думал маршал в этот критический момент, когда отечество находилось в опасности, войска страшно голодали, противники брали одну крепость за другой, а его монарх даже снизошел до обращения к подданным? Он думал о том, как стать «premier gentilhomme de la Chambre». Домогаясь этой должности, Виллар подвел гениальное обоснование: если его противники Евгений и Мальборо превосходят его и в числе войск, и в средствах, то пусть хотя бы не в должностях. В этом ему было отказано – видимо, предложенное обоснование не произвело должного впечатления. Но Виллар не успокоился и попросил через свою покровительницу Ментенон пэрство! Та тактично намекнула, что момент, когда придворные вынуждены продавать свою посуду для сбора средств в пользу армии, не является подходящим для таких челобитных к королю…
В июле Виллар внезапно попросил у короля командировать в армию принцев крови. Маршала можно понять: на его плечи легла большая ответственность. Король, наученный горьким опытом предыдущих катастроф, отказался и отправил на подмогу Буффлера, тоже маршала, но более опытного.
Утомленный поисками продовольствия (и пэрства), Виллар все больше склонялся к битве: «il faut chercher une action, puisqu’elle ne peut être heureuse, moyennant quoi tout serait rétabli, et qu’enfin il vaut encore mieux que l’armée soit dissipée par les armes que par la faim". Да, если французов в битве погибнет очень много, то это еще больше облегчит жизнь провиантской службе – тут цинизм вилларовой логики превосходил ее «железность»!
Союзники тоже были не против сражения – хотя на дворе стоял нечетный год и тем самым нарушался сложившийся график давать большие сечи только по четным годам. 9 сентября Виллар, как считают многие эксперты, упустил возможность разбить войско Мальборо и Евгения внезапной атакой при Мальплаке. Шевалье де Кенси, разведавший позицию союзного войска, утверждал, что в тот момент оно было абсолютно не готово к французскому нападению. Об этом он донес Виллару. Маршал никак не отреагировал, он был занят изучением карт. Виллар твердо решил не отказываться от оборонительного варианта битвы: хутора превращены в узлы сопротивления, сделаны засеки, реданы. Вдоль всего фронта возведен ретраншемент, за который Мориц Саксонский позже упрекнет Виллара: нужны были редуты! [3]

11 сентября при Мальплаке сошлись 3 лучших генерала текущей войны, которым никогда не изменяло военное счастье. Союзники обрушили волну кровопролитных атак на фланги французов и вынудили Виллара ослабить центр. Особенно опасно наседал принц Евгений на левом французском фланге; Виллар счел нужным вмешаться лично. В какой-то момент он был тяжело ранен пулей выше колена, потерял сознание и эвакуирован с поля боя. Командование над французской армией перешло к его заместителю, маршалу Буффлеру. Союзники же разглядели ослабление французского центра и нанесли по нему удар. Буффлер делал все, что мог, но уже не имел возможности исправить оплошность Виллара – центр был прорван, французской армии пришлось очистить поля боя, пусть и в «хорошем порядке».
На помощь раненому Виллару Людовик послал лучших хирургов. Была сделана более-менее успешная операция. Когда маршал поправился и добрался до Версаля, где ему был выделен «уголок», он удостоился неслыханный чести - само Солнце навестило его. Еще до этого визита Людовик даровал своему слуге вожделенное пэрство.
Повод умилостивить Виллара действительно был: хотя Мальплаке являлось по сути поражением, на фоне предыдущих унижений (Бленхайм, Рамийи, Ауденарде) выглядело весьма пристойно. К тому же успех дорого обошелся союзникам – их погибло около или больше 20 000. Виллар не преминул подчеркнуть это королю: « Si Dieu nous fait la grâce de perdre encore une pareille bataille, Votre Majesté peut compter que ses ennemis seront détruits». Буффлер поддержал коллегу: «il faut compter pour une grande victoire d’avoir regagné et rétabli l’honneur et la réputation de toute une nation ».
Вместе с тем, в щекотливом вопросе о виновниках поражения Мальплаке было обречено остаться сиротой: «Le maréchal de Villars, en revenant a la cour, assura le roi, que sans sà blessure il aurait remporté la viсtoire. J’en ai vu ce général persuadé ; mais j’ai vu peu de personnes qui le crussent» (Вольтер). Такое заявление не только ассоциировало с Буффлером, а не с Вилларом, поражение при Мальплаке, но и кивало на первого как на прямого виновника этой неудачи. Военное счастье Виллара формально осталось верным ему – он просто «недопобедил». Буффлер, если верить одному источнику, в долгу не остался и свалил вину на Виллара.
«Je ne saurais être partout»: Виллар, Версаль и «кабинетная стратегия»
В 1710-1711 Мальборо и ЕС продолжили пополнять коллекцию взятых у французов крепостей, не обращая внимание на французскую армию. Сама эта «armée de la dernière chance», надо признать, мало что могла сделать, выступая чаще в качестве не(до)вольного зрителя. Так, союзники взяли в 1710 Дуэ и Бетюн, т.е. прогрызли уже вторую линию легендарного «железного
А в 1711 приключилась еще одна оказия: Мальборо облапошил Виллара, прорвав французские линии под символичным названием «Дальше ни-ни» и взяв Бушен. «Казалось, что теперь у французского королевства не осталось других стен, кроме груди его солдат» (Анри Каррэ). Маршал взвалил вину за сей конфуз на подчиненных. Якобы изреченная им фраза «Je ne saurais être partout» должна была стать оправданием, а послужила поводом для насмешливой песенки: «Non plus ultra захвачена внезапно // Плачьте, Виллар, из-за вашего легкомыслия […] Это огромная потеря // Но утешьтесь: в конце концов // Вы не могли быть повсюду". Тирада настолько снискала известность, что мы видим, как А.В Суворову приходилось по разным поводам сожалеть, что «Виллар не везде».
Кампании Виллара во Фландрии заставляют нас обратиться к понятию «кабинетной стратегии». Оно нередко предстает в виде антитезы некомпетентных, неосведомленных горе-стратегов центра и талантливых, инициативных генералов на местах, скованных в своих действиях приказами сверху. Реальность применительно к войнам Людовика 14 была не столь однозначна. Есть масса примеров, когда осторожные воеводы буквально шага боялись ступить без предварительного одобрения двора, и уже самому королю приходилось подталкивать их к решительным действиям. Шансы увидеть генеральное сражение могли стать еще меньше, когда решение отдавалось на откуп самому командующему. Так, когда был осажден Дуэ, король разрешил Виллару дать битву во спасение города. Но экспертная комиссия сразу из трех маршалов (Виллар, Монтескью, Бервик) признала позицию противника неприступной.
Надо учитывать и тот факт, что руководство из Версаля могло варьироваться от «ручного режима» до «автопилота». Парадокс «кабинетной стратегии» Людовика приметил историк Ж.-П. Сэна: «в то время как король оставил значительную степень автономии заведомо некомпетентному Вилльруа, он сильнее контролировал своих лучших стратегов, Вандома в 1707-1708 годах и Виллара с 1709 по 1712 год. Это объясняется тем, что Франция была все слабее и слабее, и ставки становились все более и более важными».
Тем не менее, в современной фр. историографии обожают подчеркивать уникальность сложившейся при Людовике системы стратегического руководства и распределения полномочий в цепочке «монарх–военное ведомство–командарм». Историк Тьерри Сарман противопоставляет «le modèle français de direction de la guerre» другим европейским моделям (монархам-полководцам и «un modèle polysynodique»), подчеркивая первенство Франции в этом направлении: остальные-то страны пришли к этой системе только в 19 и даже 20 вв (см. заключение к книге Les grands generaux de Louis XIV).
К периоду между Мальплаке и Дененом относится одна щекотливая ситуация, в которую героя Франции завел его острый язык и о коей счел своим долгом донести нам Сен-Симон. Из-за своего ранения Виллар был вынужден сидеть на лошади на женский манер, свесив обе ноги на шее животного. Однажды он прилюдно пожаловался на это свое невольное уподобление женщинам, приведя в качестве примера ездящих верхом дам из свиты жены дофина (и матери будущего короля) – герцогини Бургундской. При этом Виллар имел неосторожность назвать этих дам девицами с низкой социальной ответственностью… Все бы ничего, но в окружении маршала нашелся «доброжелатель», передавший знатным наездницам эти грубые слова. А поскольку наездницы оказались дочерьми герцогини и другими придворными особами, разразился скандал. Последствия его могли быть пагубными: совсем недавно Вандом за свою дерзость в адрес гецогини Бургундской подвергся опале. Но благодаря защите мадам де Ментенон Виллар в который раз отделался испугом. Разумеется, маршал не преминул вычислить "крысу", прилюдно распек и велел арестовать.
«Ce que l’on a fait était certainement tout ce qui pouvait arriver de plus heureux, hors défaire l’armée entière des ennemis...»: Денен, триумф с недельной отсрочкой
Кампания 1712 началась в ожидании худшего: король, напутствуя Виллара перед походом, выразил готовность в случае вражеского наступления на Париж лично отправиться на фронт. Фландрская армия монарха в гости предсказуемо не дождалась: французам в июле удалось договориться с англичанами. Сменщик Мальборо герцог Ормонд прямо писал Виллару, что тому нечего бояться. Стремясь опровергнуть опасения, что он без Мальборо – деньги (голландские) на ветер, принц Евгений осадил очередную крепость – Ле Кенуа. Виллар стоял всего в одном переходе, но сикурса не оказал. 17 июля союзники осадили Ландреси, а английский отряд убрался восвояси.
И теперь Версаль, с учетом изменившихся условий, потребовал от Виллара спасти крепость ценой большого рубилова. На это ушел почти весь июль. Сначала маршала поощрял госсекретарь по ратным делам Вуазен – безрезультатно. Тогда вынужден был обратиться лично король: "Enfin, c’est à vous à déterminer et le temps et le lieu de l’action, et à prendre tous les meilleurs arrangements pour y réussir". Вот он, апофеоз кабинетной стратегии по-французски: Версаль подталкивает, требует, разве что не умоляет своего «генерала вперед» атаковать врага! Однако Виллар казался в тот момент ни «генералом вперед», ни «назад», а, скорее, «ни туда, ни сюда»: его пассивность вызывала удивление и у своих, и у чужих.
Наконец, в конце июля он решился «risquer l’événement d’un combat», только вместо большого «регулярного» сражения близ Ландреси выбирает менее рисковый вариант – атаку по коммуникациям армии Евгения. Но, как ни крути, стратегия «непрямого действия» всяко лучше прямого бездействия, так что воодушевленное французское войско в ночь на 24 июля двинулось из района Ландреси к Денену...
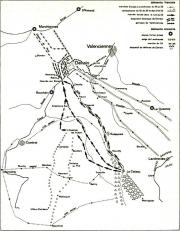
Идея «projet de Denain», как называл его Виллар, была выдвинута еще в конце мая Ле Февр д Орвалем, местным юристом и тайным осведомителем Вуазена. Именно он первым предложил отрезать войско Эжена от его баз в Дуэ и Маршьенне путем наступления в междуречье Скарпы и Шельды. Смысл в том, что союзная армия использовала Шельду для снабжения, но поскольку расположенные на этой реке Конде и Валансьенн оставались в руках французов, приходилось сворачивать в ее приток Скарпу с уже захваченными союзниками Дуэ и Маршьенном. Вместо того, чтобы взять Конде и Валансьенн и разблокировать путь по Шельде, принц отклонился сильно в сторону для осады Ландреси. Теперь его коммуникации с базами на Скарпе стали проходить в опасной близости от линии французских войск, стоявших за рекой Сансэ. Несмотря на все бездействие Виллара, Евгений счел за благо провести работы по прикрытию своих коммуникаций – «дороги на Париж». План д Орваля отрезал союзное войско от его баз на Скарпе и принуждал к отступлению куда подальше, в район Монса.

…Ночной марш французской армии к Денену едва не был сорван колебаниями главкома. Маршал Монтескью, зам Виллара, вспоминал, что его шеф дважды порывался отказаться от всей затеи, но был отговорен. Как оказалсь, вовсе не окончательно.
Французы переходили Шельду и готовились ударить по Денену; одновременно из Валансьенна сделал вылазку французский гарнизон под началом Тэнгри. Оперативно прибывший к месту событий принц Евгений решил, что все это очередная гасконнада Виллара по отвлечению внимания от Ландреси и отправился завтракать. После приема пищи принц все же вернулся, чтобы дать распоряжения по отражению французской атаки. При этом часть батальонов была выдвинута им против французского отряда из Валансьенна. Это движение было истолковано Вилларом как прелюдия большой атаки противника – он счел, что Евгений уже подтянул к Денену крупные силы. Усё пропало!
Маршал тут же приказал остановить переправу войск через реку и готовящуюся атаку Денена, солдатам следовало начать рыть окопы и т.д. Если бы в это время он получил еще и свежее письмо от Вуазена, взывавшего на сей раз к осторожности, триумфа при Денене точно бы не состоялось. На счастье Франции, письмо придет позже, а Монтескью, а также двум другим генералам, удастся ободрить колеблющегося главкома. «В случае неудачи Виллар всегда мог сказать, что его заставили принять решение, которое он не одобряет, и это, казалось, развеивало его страхи» (Лезаж).
Наступление возобновилось, Монтескью построил пехоту в колонны, и французы с боем взяли дененский лагерь противника. Евгений собирал войска для контратаки, когда увидел, что войска Тэнгри из Валансьенна заняли мост у него на фланге. Принц приказал выбить их, но дело затянулось до вечера. В итоге Тэнгри отошел, а принц отказался от атаки Денена.

Так и закончился этот маневр-бой Виллара, автором идеи которого был д Орваль, душой-двигателем Монтескью, а Тэнгри – тем, кто принял на себя главный удар имперцев (кстати, когда король позже спросит о роли Тэнгри, Виллар ответит, что тот не участвовал в деле…). Курьез в том, что вечером победного дня никто во фр. армии не ощущал себя участником эпичного побоища, спасшего Францию. Даже Виллар в письмах Вуазену и королю вместо раздувания своего успеха скорее оправдывался за содеянное, подчеркивая небольшой масштаб боя, а значит, и минимальность допущенного риска. Главной целью по-прежнему оставалось снятие осады с Ландреси, чего достигнуто не было.
Король предложил маршалу дать новый бой, но следовало еще чуть подождать – Денен оказался викторией замедленного действия. Прошла целая неделя, прежде чем перебои со снабжением и внутренние разногласия союзного войска дали о себе знать в полной мере. 2 августа Евгений все-таки был вынужден снять осаду с Ландреси. Только тогда во Франции велено петь Тэ Дэум.
После победы по традиции разгорелась борьба за ее отцовство. Логично, что враждебная Виллару традиция подчеркивала огромную роль Монтескью. Когда Виллар случайно узнал, что Вуазен назвал его победителем «в союзе с маршалом Монтескью», он был, мягко говоря, недоволен. У Франции может быть только один спаситель, два – это перебор. История, в конечном счете, встала на сторону Виллара. Многие ли ныне знают о роли Монтескью при Денене, не говоря уже про Тэнгри и д Орваля? То-то и оно. Виллар свое сражение за историческую память однозначно выиграл. Отныне он не просто лучший нападающий Франции, он – ее непризнанный «реставратор»: «Si le maréchal de Villars avait eu cette faveur populaire qu’ont eu quelques autres généraux, on l’eût appelle à haute voix le restaurateur de la France» (Вольтер).
«Villars n’était pas un bon diplomate»: завершение войны
Кампанию Виллара в 1713 его биограф Зигле назвал самой блестящей. Пфальц снова познал «скромность» французских контрибуций, и Ландау – крепость, занятая имперцами еще в начале войны и с тех пор свисавшая с севера дамокловым мечом над Эльзасом – была взята, а принц Евгений не помог. Виллар, кстати, по этому случаю раздал раненым из личных средств целых 20000 ₺. Теперь он обратился за Рейн и осадил Фрайбург, под стенами которого он уже бился 35 лет назад и комендантом коего был 20 лет назад. С определенного момента этот город стал фартовым для французских маршалов, ибо победа при нем или взятие давали право в дальнейшем домогаться титула главного маршала лагерей и армий (как это было с Тюренном и Креки). Виллар застрял под Фрайбургом почти на 2 месяца; Эль Аж подчеркивает кровопролитность осады и упрямство маршала, выраженное в повторяющихся штурмах. В итоге город сдался, а принц Евгений не помог.
Однако встрече Евгения с Вилларом в том году все же суждено было состояться, только уже за дипломатическим столом: их обоих уполномочили договориться о мире. Встреча состоялась 26 ноября в Раштадте, в замке, где ранее жил Людвиг Баденский. Луи-Эктор прибыл туда первым, Эжен задержался на 30 минут (в пробке?). Принцу пришлось взобраться по ступенькам лестницы навстречу герцогу – рана при Мальплаке не позволила Виллару спуститься. Они обнялись и вскоре приступили к переговорам.
Процесс затянулся на несколько месяцев, благо, Евгений и Виллар не скучали – вместе обедали, перекидывались в пикет и в брелан, причем выигрывал принц. Евгений явно переигрывал оппонента не только в картишки, на и как переговорщик – Виллар, несмотря на свой посольский опыт, «не был хорошим дипломатом» (Эль Аж). Кроме того, маршал сам признавал, что принц демонстрирует лучшую осведомленность в делах, чем он. Переговоры были полны драматизма и подчас оказывались на грани срыва, в какой-то момент Евгений даже начал сбор армии и подготовку к кампании 1714.
Общими усилиями к середине января 1714 ЕС и Виллар все же составили проект договора. Наконец, в начале марта «дрожащей рукой и со слезами на глазах, Виллар ставит свою подпись внизу договора» (Зигле). Осенью того же года состоится новая встреча полководцев в Бадене – ибо не для того Европа воевала 13 лет, чтобы все решить в одном мирном договоре…
От «l’homme le plus populaire du royaume» до «la vieille icône louis-quatorzienne»: мирный период 1715-1733
Виллар, главный герой последних кампаний, спешил воспользоваться плодами своей славы. Франсуа Зигле называет его самым популярным на тот момент человеком во Франции. И халява ему перла: маршал получил знаменитый орден от испанского короля, хоть и не дрался непосредственно за Испанию; избрался в Академию, хотя не сочинил ничего, кроме разве что реляций – видимо, прошел как баснописец. Но когда он в очередной раз покусился на меч коннетабля, то получил отказ.
После смерти Людовика 14 маршал вошел в регентский совет. Регент назначил его президентом Военного совета. Виллара можно назвать военным министром, потому что этот орган был задуман как замена прежним ведомствам и соответствующему секретариату. Впрочем, маршал быстро разочаровался коллегиальной практике: «В начале эти советы действительно были советами. Некоторое время спустя они только выглядели так, и, наконец, не было ничего, кроме как услышать чтение газеты». Он лоббировал и рекламировал гренадеров в пехоте, выступал против безоглядной демобилизации, в целях ремонта кавалерии хотел предоставить частным лицам свободу владеть кобылами и жеребцами(?), советовал поддержать Испанию. С Филиппом Орлеанским Виллар в целом не сработался.
В 1716 он наконец выбрался в Прованс, назначенный ему в управление еще со времен дененских и покоренья Бушена. Здесь он начал строить канал к реке Роне и боролся с чумой, посадив целый город на самоизоляцию. Здесь же вновь дал повод сложению легенд о его скупости и сребролюбии. Увы, жадность Виллара стала известна не меньше его отваги и успешно конкурировала с ней за первое место в памяти людской. Так, Вернет, вспоминая про Суворова, отмечал, что тот «слушал с приметным удовольствием всегда анекдоты о маршале Вилларе, и когда я порицал его скупость, сравнивая ее с бескорыстием Вандома, и расточительность лорда Петерборуга с лишнею бережливостью Мальборуга, тогда Суворов, улыбаясь, сказал: «Скупость не похвальна и не приличествует характеру героя, правда твоя, Ф. И.; но Виллар и Мальборуг были славные воины!» (Рассказы старого воина о Суворове. IV. Выписка из статьи Ф.И. Вернета, напечатанной в Вестнике 181_ года). Вернет имел в виду широко известный анекдот про Виллара на посту управителя Прованса, где он сменил Вандома. В свое время Вандом отклонил денежное подношение в 1000 ₺ от магистратов тамошнего парламента. Магистраты не преминули напомнить об этом новому губернатору, надеясь, что и он, в подражанье предшественнику, великодушно откажется от бабла. Наивные люди… Виллар забрал денежки со словами: «Мсье Вандом был неподражаемым человеком!»
Так и свидевшись в свое время с Карлом 12, лучшему бомбардиру Франции посчастливилось встретиться с бывшим капитаном бомбардиров и лучшим полководцем Сев. войны – Петр, как известно, нанес визит во Францию в 1717. Виллар был представлен царю среди прочих воевод во дворце Ледигьер. Эта первая встреча была «омрачена воспоминаниями царя о недружественных дипломатических демаршах Виллара в отношении России. До царя дошли сведения, что при заключении Раштадтского… договора …, французский маршал «двор цесарский приводил к тому, чтоб обще с королем его старание имел о восстановлении короля шведского во владении возвращенных и завоеванных его земель. И чтоб все те полученныя провинции принудить его царское величество ему шведу возвратить». Однако дальнейшее личное общение с маршалом Вилларом принесло царю явное удовлетворение» (Мезин С.А. Пётр I во Франции. 2015). Виллар имел честь сопровождать царя при посещении оным Лувра и Дома Инвалидов. В первом случае маршал выступил в качестве военного гида, во втором – подарил книгу «Общее описание королевского Дома Инвалидов». Наконец, вершина почета - «вечером 17 июня царь ужинал у маршала Виллара в его дворце на улице Гренель» (Мезин С.А.). Успел ли маршал рассказать почетному гостю обо всех своих подвигах – вопрос риторический.
Общение с великим Петром должно было произвести на Виллара соответствующее впечатление, наверное, поэтому он «сменит обувь» и, отбросив враждебность к России времен Раштадта, будет рекомендовать регенту Филиппу искать в лице царя союзника Франции.
Со временем влияние Виллара падало. Смерть мадам де Ментенон лишила его покровительницы, а предполагаемая готовность участвовать в заговоре против регента породила даже слухи о его готовящемся аресте. Обошлось, но отныне «Villars ne pesait plus dans la direction des affaires militaires» (Эль Аж). Финансовое положение тоже ухудшилось. Тут еще обнаружилось, что сын у Виллара нетрадиционной ориентации. Неизвестно, правда, опечалило ли это отца, про которого тоже в свое время ходили некоторые слухи…
На коронации Людовика XV Виллар, исполняя обязанности старшины маршалов, (исполняющего, в свою очередь, обязанности давно упраздненного коннетабля), нес коронационный меч. Самым старшим среди маршалов (дуайеном) был на тот момент Вилльруа, но отсутствовал по уважительной причине – опала и арест. Новый король даже внушил меченосцу напрасные надежды, назвав его «господином коннетаблем». Увы, юный монарх, видимо, изволил шутить.
Виллар удаляется в свой замок Во, пишет мемуары, периодически принимает Вольтера, который начинает ухлестывать за его супругой, и некоторых других прозаиков.
На портретах, висевших в замке маршала, гости могли узреть несколько его современников. И если наличие портретов Буффлера и шведского короля Карла №12 понятно, то полотна с противниками, включая Мальборо и Ойгеном, кажутся сюрпризом. К чему такая честь тем, кто победил его при Мальплаке (пусть у одного из них маршал потом взял реванш)? Учтем, что во вселенной Виллара рубилово 1709 не являлось ЕГО поражением: Мальплаке проиграл Буффлер (см. выше). Стало быть, маршал просто относился с уважением к своим великим противникам (кстати, есть ли информация, что на стенах Бленхаймского дворца или Бельведера висели портреты Виллара?).
Также в замке красовался портрет… Оливера Кромвеля. Наш Эль Аж удивляется: чем же мог лорд-протектор так заинтересовать маршала? Кто знает, возможно, Виллар увидел в нем коллегу по цеху и ценил ратный гений. Странным в таком случае назовем мы отсутствие портрета Петра 1, благо что маршал имел великую честь лично общаться с ним…
«Maîtriser son histoire» и «faire le gascon»: Мемуары и картины
Естественно, человек столь ревностный к своей славе, не просто любящий «faire le gascon», но и жаждущий, как выразился Эль Аж, «maîtriser son histoire» на манер Наполеона, был просто обязан оставить мемуары. «От описания некоторых его подвигов до того несет фальшью, что испытываешь негодование, — и оттого что человек так нагло превозносит самого себя, и оттого что сей самозваный герой смеет надеяться при помощи столь грубой лжи одурачить людей…» - бушевал Сен-Симон, обличая заодно «тщеславное желание Виллара неизменно выглядеть героем в глазах потомков, пусть даже ценой лжи и клеветы, из коих соткан роман его мемуаров». Действительно, многое из описанного в мемуарах следует делить на 2, если не на 100, а кое-что и на плюс бесконечность.
«Мемуары» Виллара его наследники поспешили опубликовать вскоре после смерти – первый том вышел в конце 1734. Он охватывал события от рождения героя до 1700 г., т.е. период, когда Виллар еще не вышел (или только что вышел) на большую авансцену. Дальше шел период войны за Испанское, и тут семья покойного мемуариста столкнулась с заминкой: многие очевидцы тех событий все еще здравствовали, поэтому публикация вилларовых приключений могла спровоцировать в равной степени и соответствующее опровержение, и смех, и скандал. Тогда на помощь был призван аббат Маргон: следующие два тома «Мемуаров» он взял не из оригинальной рукописи, а скомпилировал из газет и прочих архинадежных источников.
В 1784 Анкетиль опубликовал мемуары Виллара по приказу военного-морского министра. Он обработал 142 тетради мемуаров в пол-листа, 213 отдельных листов того же формата, 14 томов писем. Жаль только, что он, по моде того времени, «беллетризировал» издание, например, ввел цитаты из писем как прямую речь и т.д. Публикация полного и строго аутентичного текста по-прежнему ждала своего часа.
В серии «Коллекции мемауров…» (1828) этого снова не случилось: первый том вилларовых воспоминаний был взят из голландского трехтомного издания Маргона как оригинальный текст; остальные попросту воспроизведены по Анкетилю. И лишь в 1884, через полтораста лет после смерти маршала, наконец-то появилось издание его мемуаров полностью на основе оригинальных записей!
Пропаганду своих подвигов Виллар не ограничивал письмами и мемуарами. Он заказал себе целую серию картин о битвах, в число которых не постеснялся включить Мальплаке (где он «недопобедил» - см. выше), Мохач, Кокесберг, Сенеф (где он, мягко говоря, играл роль второго плана) и т.д.; также вниманию гостей замка Во предлагались и карты сражений. Впрочем, маршал здраво рассудил, что пиар не сводится к одним лишь баталиям, поэтому заказал и другие свои успехи, например оборона против Мальборо в 1705, конгресс в Раштадте и т.д. Как отмечал Бертран Фонк (Peindre la guerre, 1 6 8 8 - 1 7 1 5), средь полководцев Франции, вынося за скобки Конде и королей, только Виллар отметился подобной галереей.
«ТРАКТАТ О ПОЛЕВОЙ ВОЙНЕ»и «ЗАПИСКА О КАВАЛЕРИИ»
Оставил ли Виллар после себя работы по части военной теории? До недавнего времени считалось, что да. Во французской Национальной библиотеке валяется рукопись «Трактат о полевой войне», чьим автором наш герой почти 300 лет признавался на основании… одной-единственной подписи к ней. Надо сказать, трактат не лишен скандального колорита: например, живо критикуется институт инспекторов, которые подрывают авторитет полковника, выдвигается требование «laisser les colonels inspecteurs de leur régiment». «Если младший офицер достаточно счастлив, чтобы иметь защиту своего инспектора, он смотрит на своего полковника как на пустое место». Сам Виллар прослужил полковником достаточно долго, так что теоретически мог настрадаться от инспекторов. Еще более смелая мысль – в болезненном вопросе о соотношении заслуг и происхождения при продвижении в чинах. Автор стремился уравнять шансы «officiers de fortune» с господами знатного происхождения; имеющего заслуги офицера с тем «офицером, который […] за несколько лет службы не поучаствовал ни в одной сшибке». Дело даже дошло до предложения "обращаться до определённого момента в продвижении [в чинах] с великим сеньором как к солдатом удачи ". Все это тоже вполне могло исходить из уст Виллара, пусть сам он и не был «officier de fortune» (а был, скорее, maréchal de fortune).
Наш Эль Аж на момент написания биографии Виллара признавал его авторство (с. 38, 128), и только потом он, наконец, обратил внимание на скупые данные автора трактата о себе (см. статью Эль Ажа «Qui est l'auteur du Traité de la guerre ... conservé à la Bibliothèque Nationale de France?»; никто больше за 300 лет это сделать не удосужился). Автор трактата утверждал, что служил в жандармерии и бился при Стеенкерке, чего с Вилларом никак не случалось. К тому же обнаружилось, что и подпись «Луи Эктор де Виллар» была добавлена к рукописи позже… Авторство Виллара отпало, и Эль Аж разыскал подходящего по критериям автора – им оказался маркиз Ильер, дослужившийся до лагерного маршала.
Вот так Эль Аж выступил в роли «злого гения» Виллара - не только развенчал мифы вокруг его биографии, но и «лишил» лавров военного теоретика. Случаи подобного ошибочного приписывания великим военачальникам военно-теоретических работ не редки – подобное мы уже видели в отношении Фарнезе (см. «Испанский Александр») и – возможно – Тюренна ( «Записки о войне», см. Тюренн в роли Вобана).
Впрочем, сохранилась еще одна рукопись Виллара, о которой не соизволил упомянуть Эль Аж – «Записка о кавалерии». Судя по дате, ее появление было обусловлено начавшейся войной за Испанское наследство (см. Drévillon. L'impôt du sang). В ней Виллар, с высоты своего тридцатилетнего опыта кавалериста, дает советы, как лучше воевать этому роду войск. Например, он поднимает вопрос о том, следует ли всаднику стрелять перед тем, как врубиться в неприятеля. Нетрудно догадаться, какого мнения придерживался автор по данной проблеме…
"Si on veut la guerre, il ne faut pas la faire à demi": Итальянский последний поход
Если б среди маршалов Людовика в 1714 нашелся свой проницательный Фош, то, ознакомившись с условиями Раштадтского мира, он воскликнул бы, что это не мир, а лишь перемирие на 20 лет. Как это случится и через 2 века, новая крупная европейская разборка началась с борьбы за Польшу.
После смерти Августа II освободилась вакансия короля всея Речи Посполитой, и топ-державы поспешили выдвинуть своих соискателей. В воздухе запахло большой дракой, по которой Европа явно соскучилась, поэтому Виллар, несмотря на свой возраст, был призван в качестве военного эксперта. Он поддержал кандидатуру Станислава Лещинского, тестя Людовика XV. Кардинал Флери, первый министр Франции, спросил его мнение о ведении войны на 2 фронтах - Рейне и Италии - и получил ответ:
- Si on veut la guerre, il ne faut pas la faire à demi.
Виллар предлагал решительные действия, в частности – захватить Люксембург, не медлить с завоеванием Милана. Но кардинал желал как раз «полувойну» и ему не был нужен чересчур активный маршал, трудный в управлении. Поэтому на главный – германский – фронт отправился маршал Бервик – полководец более широкого диапазона, умевший воевать и в полную силу, и на 0,5.
Виллара же кинули в Италию. Он бывал там в 1696 и 1701, затем дважды отнекивался, но от судьбы не уйдешь. По случаю нового назначения он еще раз испросил меч коннетабля, а получил лишь частичную компенсацию в виде главного маршала лагерей и армий короля. Только теперь, в отличие от патентов Тюренна и Ледигьера, в полномочиях Виллара было четко прописано право командовать маршалами Франции. Одно должно было огорчить Виллара – в Италии других маршалов, кроме него, не нашлось.
Виллар тронулся в путь в конце октября, в пору, когда военные действия обычно заканчивались. Долгий переход в такой сезон, тем паче через Альпы, дорого обошелся здоровью маршала… В Италии ему пришлось иметь дело с союзником Франции сардинским королем Карлом Эммануилом – говорят, что на встречу с ним в Турине Виллар явился уже под властью Бахуса и упал на пол. «Он был тенью самого себя, погруженный в удовольствия, которые он, конечно, всегда любил, но которые, учитывая обстоятельства, отражали усталость, если не старость» (Эль Аж).
Виллар начал кампанию без раскачки (ибо не было времени), прямо в ноябре: первая вражеская крепость была осаждена всего через 5 дней после прибытия главного маршала в Турин, а к началу декабря взяты Пиццигеттоне и Кремона. Затем осаждена цитадель Милана – она сдалась 30 декабря в качестве новогоднего подарка. Виллар рвался дальше, к Мантуе, но был сдержан Карлом Эммануилом и Флери. Ему было запрещено переходить Минчо.
Здоровье его постепенно ухудшалось, трения с союзником росли, и он стал просить отставки. В мае 1734 произошла стычка у Мартинара, распиаренная аббатом Маргоном, когда Виллар «удивил» вражескую партию из 300 человек, вынув шпагу и лично возглавив своих драгун в возрасте 81 года (сразу вспоминается «Смотрите, как умеет бить врага ваш старый фельдмаршал!» из фильма В.И. Пудовкина). Неумолимый Эль Аж разрушает и эту легенду: других свидетельств, кроме Маргона, об этой успешной атаке нет, наоборот, один источник сообщает, что Виллар упал в обморок и вместе с королем Сардинии чудом избежал плена…
В конце мая Виллар получил наконец разрешение покинуть Италию. По пути домой он ушел из жизни 17 июня 1734 года в Турине.
Принц Евгений Савойский, узнав о его смерти, сказал: «Франция только что понесла убытки, которые она не исправит в течение длительного времени»
Примечания
[1] Каррэ Анри. Маршал Виллар, воевода и дипломат. [Предисловие маршала Петэна] 1936; Руа Ж.-Ж.-Э. История маршала де Виллар. 1857; Зигле Франсуа. Виллар, центурион Луи XIV (1996); Жиро Ш.-Ж.-Б. Маршал Виллар и его время 1881; Эль Аж. Маршал Виллар. 2012.
В России по-прежнему не написано полноценной биографии маршала. Виллар удостоился 40+ страниц в книге Ивониных «Полководцы-миротворцы? (Евгений Савойский и Клод-Луи Виллар)» (большая часть там – про Эжена). Затем Ивонина в союзе с Беспаловым выпустила книгу «Спаситель Франции. Главный маршал лагерей и армий короля герцог Клод Луи Гектор де Виллар (1653-1734 гг.)». Качество сих творений позволяет нам утверждать, что в России скорее нет биографии Виллара, чем она есть…
[2] Правда, должность (не чин) генерал-полковника, изначально с большими полномочиями, была обесценена Людовиком (жертвой этого безобразия стал Тюренн). Подробнее см. Drévillon. L'impôt du sang.
[3] «Гибнут только в обороне» - в нашей литературе любят цитировать этот безапелляционный лозунг Виллара. Он приписывался маршалу начиная с военной энциклопедии Сытина, откуда благополучно перекочевал и в советские энциклопедии.
«В начале кампании 1709 г. Виллар был назначен главнокомандующим Северной французской армией. Его девиз "Гибнут только в обороне" был известен всем в Европе» - уверенно пишет Ивонина в статье о битве при Мальплаке. Указания на источник, разумеется, нет – доктору наук не пристало ссылаться на старые энциклопедии, поэтому пускай читатели поверят на слово. Только откуда вдруг у Людмилы Ивановны уверенность, что эта фраза была произнесена до 1709 г. и что ее знала вся Европа? Виллар мог сказать это после Мальплаке, исходя как раз из опыта этой битвы… А может, он произнес эти слова… прямо накануне Мальплаке? Это было бы гениально. Представим, как его вопрошают: «Товарищ маршал, какие будут распоряжения для битвы?», а он в ответ: «Возводите защитные укрепления… Гибнут только в обороне!»
В письмах и мемуарах Виллар частенько проводил мысль в пользу наступления. Всегда очень важен контекст, и вот как одна из таких фраз звучит в оригинале (из письма 1734):
«Pour une bataille, je pourrais la gagner encore ; mais pour une guerre défensive, guerre de pelles et de pioches, comme disent les généraux piémontais, j’y périrais et y servirais bien mal, quand même j’en aurais la force...». Речь идет о том, что для оборонительной, в первую очередь, осадной войны, где нет полевых баталий, Виллар считал себя малопригодным командиром. Это высказывание, сделанное в конкретной обстановке 1734 и в свой собственный адрес, было переведено и искажено в отечественной литературе в виде категорично-универсального тезиса «гибнут только в обороне». Стало быть, в 1709 Европа еще не имела чести узнать девиз Виллара, озвученный четверть века спустя, и Ивонина ошиблась, в очередной раз дав волю воображению там, где требовалась документально-фактологическая точность историка.
Виллар и вправду постоянно подчеркивал опасность отдавать инициативу сопернику и оказаться атакованным. Так, пережив на сильной оборонительной позиции пришествие Мальборо в июне 1705, он спустя 2 месяца заметил Шамийяру: «Monsieur, contez qu'il est très dangereux pour les François d'estre attaquez, mesme dans un bon poste...». Виллар утверждал, что французы созданы для наступления на врага. В кампании 1709 он был вынужден скорректировать свои принципы…
@темы: маршалы Франции, Виллар
ALESSANDRO, che fe suo nome eterno
Col bellicoso folgorante acciaro,
A cui s'opposer collegati invano
Di piu Province gli orgogliosi sdegni
Carlo Innocenzo FRUGONI
читать дальше
В велеречивых стихах по случаю женитьбы в 1728 Антонио Фарнезе, герцога Пармского, поэт Карло Фругони почти каждое упоминание о его великом предке - Алессандро – заботливо сопровождал прозвищем «Молния войны». Сей лестный и почетный титул тот снискал после(?) знаменитой битвы при Жамблу. Как оказалось, «Молнией войны» Алессандро звался не на правах единоличного собственника: известно, что точно так же был наречен и его старший современник – Санчо Давила-и-Баса, воевавший под командой Альбы (см. книгу «El rayo de la guerra: hechos de Sancho Davila…». 1713). Выходит, что у испанцев во Фландрии оказалось сразу две молнии! Впрочем, голландцам повезло больше – у них были качественные громоотводы и заземлители в лице Оранских.
АЛЕКСАНДР: БЕЗ ДАРИЯ, НО С ФИЛИППОМ
Итак, герой очередного обзора из серии ВИП – про великих испанских полководцев – Алессандро Фарнезе, он же Алехандро Фарнесио, отвоеватель и собиратель земель нидерландских, повоеватель французских, или, как он представлен в одной книге 1619, «rayo de la guerra, libertador, conquistador y defensor, y Gouernador en los estados de Flandes». Человек, на чьей могиле надпись еще короче, чем в случае с А.В. Суворовым: «ALEXANDER».
Естественно, военачальник с таким именем не мог не удостоиться сравнения со своим великим тезкой из Македонии. Так, на одной из гравюр АФ был изображен с молнией в руках вместо привычного командирского жезла (Diane H. Bodart. Les visages d’Alexandre Farnèse, de l’héritier du duché de Parme au défenseur de la foi). Молния – это и отсылка к прозвищу, и подражание одному из изображений Александра Македонского. В своем произведении «El asalto de Mastrique por el príncipe de Parma» Лопе де Вега вложил в уста одного героя следующую безапелляционную оценку: «…Alejandro Farnesio, cuyos hechos oscurecen las glorias de Alejandro». Хорошо, что аналогии не распространились на других действующих лиц, что неминуемо привело бы к оскорблению Филиппа Второго сравнением с Филиппом Вторым (отцом для АФ он являлся, правда, в чисто политическом смысле – так сказать, король-батюшка), поиску Спитамена в Вильгельме Оранском, а Пора, надо полагать, в Генрихе 4… Кто ж тогда Дарий? Пармскому Македонскому решительно не доставало такого характерного антагониста.
«EL MEJOR GENERAL AL SERVICIO DE FELIPE II Y DE LA EUROPA DE SU TIEMPO»
А поводом обратиться к личности сего выдающегося терцеводца стал выход очередной его биографии – Luis de Carlos Bertrán «ALEXANDER: LA EXTRAORDINARIA HISTORIA DE ALEJANDRO FARNESIO». Напомним, что об АФ уже написано несколько биографий, в т.ч. за авторством итальянцев Феа (из числа более подробных) и Пьетромарки (из числа более современных), испанца Рувио, а самое главное, фундаментально-монументальный пятитомник на французском от бельгийца Леона ван дер Эссена, где одной только осаде Антверпена уделен целый том – «Alexandre Farnese, prince de Parme, gouverneur général des Pays Bas (1545-1592)».
И к вот такой компании решил примкнуть не профессиональный историк, а юрист Луис де Карлос Бертран. Впрочем, после того, как один испанский дипломат (Альби де ла Куэста) написал бестселлер по терциям, другой (Бенавидес) – про Спинолу, а инженер на пару с военным – самую подробную книгу про Рокруа (Мирекки и Палау), нечего удивляться тому, как сильно исторический «нонфикшн» в Испании нынче завязан на таких энтузиастах-любителях. Бертран, если верить предисловию, специализируется на праве фондового рынка, корпоративном праве и управлении, слияниях и поглощениях и банковском праве. Сие обстоятельство во всей красе проявляется, например, при правовом анализе автором шансов различных кандидатов (среди коих числился и АФ) на португальский престол в 1580.
Сама книга поделена просто: половина потрачена на собственно жизнеописание герцога, половина – на примечания. Картами и иллюстрациями не обделена, за что честь и хвала издательству.
Прочитав эпопею ван дер Эссена, Луис де Карлос был очарован Алессандро, познакомился с видным историком Ривотом и по блату проник в архив Симанкаса для написания биографии. Он сразу сознается: для него АФ – «una figura de primer orden que había heredado de sus ilustres antepasados grandes cualidades personales y militares». В его картине мира это лучший воевода Филиппа 2 (в пролете остаются Альба, дон Хуан и др.) и тогдашней Европы (здесь Бертран почему-то проигнорировал Дмитрия Ивановича Хворостинина и Михаила Ивановича Воротынского). «Gran estratega», АФ также был искусным дипломатом и переговорщиком…
Целая глава в книге Луиса отдана жизни ближайших предков героя. А предки были серьезными фигурами: дед – император Карл 5, прадед – римский папа. Мать АФ, Маргарита, признанная дочь Карла от служанки, была выдана отцом за «простого» Оттавио Фарнезе, который вступил в нелегкую борьбу за признание за собой перепавшего ему от отца герцогства Парма и Пьяченца (и в итоге добился своего).
АФ родился в Риме, рос в Парме, далее судьба его помотала: Брюссель и встреча с королем, визит в Англию (Альбион, видимо, настолько впечатлил АФ, что тот через 30 лет решил туда вернуться), обучение в Алькале, что в Испании, вместе со своим родственником доном Хуаном (бастард Карла 5, единокровный брат матери АФ Маргариты) и царевичем Карлосом. «Sin duda, su estancia en Bruselas y su visita a Inglaterra fueron fundamentales en la formación del joven príncipe». Придворная жизнь в Испании затянулась на несколько лет, и «entre 1562 y 1565… Alejandro… se convirtió en una de las estrellas de la corte». Он жил на широкую ногу, настолько широкую, что родители попросили его умерить расточительство и жить на узкую.
Царь Филипп поспешил подобрать АФ жену – и выбор пал на португальскую принцессу Марию. АФ был не в восторге от суженой, ибо она была старше на 7 лет, но «относился к ней с уважением». Жаль, правда, это уважение не распространялось на его «correrías nocturnas y galanteos con las jóvenes damas parmesanas », что вызывало ревность у супруги.
«NO PODÍA LLENAR EL CARGO DE CAPITÁN QUIEN VALEROSAMENTE NO HUBIESE HECHO PRIMERO OFICIO DE SOLDADO»
Наконец, в 70-е стартует военная карьера АФ. Развивается она целиком в фарватере его давнего знакомого по Алькале дона Хуана – тот, будучи на 2 года младше своего «полуплемянника», добивается командных высот быстрее. АФ с энтузиазмом участвует в двух кампаниях Хуана против турок – триумфальной 1571 и провальной 1572. В Тунисской экспедиции-73 ему поучаствовать не довелось, хотя желание было. Назначенный умиротворять Фландрию, дон Хуан заехал мимоходом к АФ в Парму и тот согласился составить ему кампанию. Здесь, действуя против мятежных голландцев, он отличается при Жамблу, где разбивает арьергард отступающего воинства «еретиков». Формально войском командовал дон Хуан, но тот не стал красть чужие лавры и в письме царю воздал похвалу своему родственнику. В беседе же с самим АФ Хуан «le recriminó que hubiera actuado unilateralmente sin órdenes suyas y que hubiera arriesgado su vida de forma temeraria, a lo que Farnesio replicó que «no podía llenar el cargo de capitán quien valerosamente no hubiese hecho primero oficio de soldado». После победы АФ предлагал идти на Брюссель, но дон Хуан не рискнул.
В целом, успех при Жамблу сыграл для АФ роль бонапартова Тулона, и к моменту смерти Хуана он раскрутился настолько, что для Филиппа кандидатура нового ответственного за Фландрию стала очевидной: «El monarca no había podido elegir mejor, y Farnesio pronto le demostraría su enorme talento».
АФ тут же развил кипучую деятельность, в короткий срок достиг ряд важных успехов на военном и дипломатическом фронтах: «en el breve plazo de un año desde su nombramiento como gobernador, Farnesio había logrado el doble objetivo de consolidar el dominio del territorio con la conquista de Maastricht y de lograr el acuerdo de paz con las provincias católicas del sur. No se podía pedir más en menos tiempo».
Часть мятежных провинций удалось умиротворить: «gracias a Farnesio las provincias del sur se mantuvieron fieles al catolicismo y se estableció una barrera con las provincias calvinistas del norte, donde puede encontrarse el origen de las actuales Bélgica y Holanda». Итоги первых 7 лет воеводства АФ на контрасте с тем, что творилось до него, смотрятся впечатляюще:
«Cuando el príncipe de Parma fue nombrado gobernador, tan solo tres de las diecisiete provincias de los Países Bajos eran leales al rey. Siete años después, siete décimas partes del territorio estaban bajo el control de Farnesio, que esperaba poder completar la recuperación plena de los Países Bajos para la monarquía de España». Антитеза талантливого слуги и несколько ограниченного монарха позволяет автору пофантазировать об исторических альтернативах: «Если бы после завоевания Антверпена Филипп II не распылялся на Англию и Францию, а поддержал планы Фарнезе и проявил некоторую гибкость в религиозном вопросе, возможно, герцогу Пармскому удалось бы умиротворить Голландию и Зеландию и вернуть королю контроль над Нидерландами».
Отметим и то, как в ряде щекотливых для АФ моментов юрист Луис делает его своим подзащитным. Взять, к примеру, эпизод с Зихемом в 1578, когда уже сдавшийся войскам АФ вражеский гарнизон был вырезан, а комендант повешен. Бертран пытается понять и оправдать: «Этот поступок Фарнезе является одним из самых спорных в его карьере... Однако, к его чести, он действовал по прямому приказу своего начальника, дона Иоганна Австрийского, и дважды призывал защитников [города] и предупреждал их, что не будет помилования, если они не сдадутся…». Но АФ мог или вообще не подчиниться приказу Хуана, или не усердствовать в его исполнении ... Выбор есть всегда, а потому однозначный «минус в карму» АФ.
Другая история – нечестивая роль АФ в подготовке убийства Вильгельма Молчаливого. Тот, как известно, в какой-то момент был объявлен царем Филиппом, как бы сказали сейчас, нежелательным лицом и экстремистом. Испанцы озаботились поисками подходящего киллера. В марте 1584 один из претендентов на сию греховную вакансию прошел собеседование у АФ. «Farnesio comprendió que estaba delante de un hombre capaz de acabar con el Taciturno y le exhortó a perseverar en su empresa. …Le garantizó para él o sus herederos las recompensas prometidas por el edicto de proscripción». Этот окаянный наймит, Жерар, исполнит свой злой умысел в июле 1584.
Здесь Луису трудно что-либо возразить, хотя он обращает внимание на то, что и на АФ тоже покушались. «Эн ла герра тодо вале».
СЫНОВНЯЯ НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ
Аррасский договор 1579 предусматривал назначение в Нидерланды нового управленца, причем королевской крови. АФ, видимо, был морально готов покинуть пост, но оказался совершенно не готов увидеть в качестве преемника… свою родную мать. Это дало повод для семейной драмы в худших традициях мыльных опер. Дело в том, что царь Филипп, раздумывая над сменщиком Фарнезе, вернулся к опытной кандидатуре в лице герцогини Пармской («Маргарита! Маргарита, ведь ты не забыла…» ©) - ранее она уже была наместницей в Нидерландах. А ее сын АФ должен стать при ней командующим новой армией, набираемой в силу положений Аррасского договора. Мог ли представить Филипп, что перспектива оказаться в подчинении у матери станет столь невыносимой для честолюбивого АФ?
Сын далеко не сразу удостоил встречи приехавшую в Намюр мать и наотрез отказался командовать армией. «No deseaba compartir el poder con ella [т.е. с матерью] tanto por razones personales —habiendo sido gobernador lo consideraba una rebaja y un riesgo para su reputación— como por razones políticas, por entender que ello perjudicaría la causa del rey en los Países Bajos…». Одним словом – понты, если отбросить деликатные формулировки Луиса де Карлоса. В письме царю АФ иронично изъявил надежду, что большие способности герцогини Пармской позволят исправить его ошибки. «Margarita estaba muy enfadada con su hijo por su actitud de rebeldía frente a las órdenes del rey y por no querer colaborar con ella», но как мать и мудрая женщина, решила отказаться от своего назначения и попросила монарха позволения уехать восвояси. Переписка царя с обоими участниками драмы растянулась на несколько месяцев – Филипп, очевидно, не сразу понял всю серьезность алессандровых понтов (так сказать, всю величину мелочности) - и лишь в конце 1681 Нидерланды официально обрели нового старого губернатора – дона Алехандро Фарнесио. Даже очарованный своим героем Луис де Карлос признает, что «el príncipe de Parma pecó de soberbia y arrogancia y su actitud… sobre todo, dañó a su madre».
Так была нарушена заповедь «Почитай отца твоего и мать твою» и в карму «лучшего полководца Европы» прилетел очередной минус.
«АЛЕХАНДРО, АЛЕХАНДРО, ЭТОТ ГОРОД НАШ С ТОБОЮ…»
Во Фландрии, равно как и во Франции и Германии, АФ показал себя мастером по части взятия непокорных твердынь. А его солдаты могли бы распевать, что они вместе с командующим стали судьбою таких городов, как Маастрихт, Ипр, Гент, Брюгге и еще нескольких десятков меньшего пошиба.
Но самым крупным триумфом, было, конечно, взятие Антверпена в 1585. Именно эта победа дала новый виток хвалебным сравнениям АФ с Александром Великим. Стали распространяться медали, уподоблявшие сей успех покоренью Тира, надпись на коих гласила: «Ты равен Александру [Македонскому] по имени, [но] выше его в деяниях». А что творилось в Испании… "Антверпен наш" – так кратко, на радостях Филипп II выпалил своей дочери новость о возвращении города в родную гавань. И АФ получит орден Золотого руна как раз под стенами одного из фортов взятого им нидерландского мегаполиса.
Залогом успеха осадной войны АФ во многом стали те два десятка военных специалистов, что он привлек с родного полуострова – ведь итальянские инженеры высоко котировались в ту эпоху. Среди них – Франческо Пачиотто, Бартоломео Кампи, Габрио Сербеллони, Проперцио Бароцци и Джованни Баттиста Пьятти (Oronzo Brunetti. Alessandro Farnese: «Achille di valor, d’ingegno Ulisse?»). Был при Антверпене еще один итальянец, Джамбелли, но он сражался на стороне голландцев.
Альби де ла Куэста приводит такой исторический анекдот: «Farnesio, cuando se le presentó a la firma un documento datado «en el sitio de», lo rompió indignado, ordenando que se pusiera en su lugar «frente a» porque él o no sitiaba una plaza o si lo hacía, la tomaba» (От Павии до Рокруа). И действительно, поражения в осадной войне АФ терпел крайне редко – на ум приходит разве что провал при Берген-оп Зоом. Но, учитывая известные трудности осады этого конкретного места, проиграть здесь было не зазорно, и другой матерый градоосаждатель, Спинола, в следующем веке подтвердит это на своем опыте. Была еще вынужденно брошенная (не по вине АФ) осада форта Кнодсенбурга, а также неудачные попытки штурма во время осад Турне и Маастрихта, что не повлияло на конечный успех предприятия.
Фарнезе не просто отлично знал фортификацию, но и, как считается, даже написал трактат по этой теме: «Commentarj di Varie Regole e Disegni di Architettura Civile e Militare con altre Istruzzioni e Precetti di Arte Militare». Рукопись из 238 листов с чертежами хранится в Риме и до сих пор не опубликована. Неужели никому не интересны взгляды одного из великих градопокорителей? Скорее всего, дело в содержании: «Si tratta di un codice di scarsa originalità, discontinuo e opera di più autori, si riconoscono almeno tre differenti grafie; sono trattati temi di architettura civile ma oltre tre quarti dell’opera sono dedicati ad argomenti militari: dalle difese agli armamenti alle tecniche di assedio. Alessandro è riconosciuto autore per via del frontespizio ottocentesco che può essere doppiamente interpretato: la preposizione ‘di’ come appartenenza oppure come paternità letteraria» (Oronzo Brunetti. Alessandro Farnese: «Achille di valor, d’ingegno Ulisse?»). Таким образом, авторство АФ ставится под сомнение. Наш автор, Луис де Карлос, опираясь на Пьетромарки и Эссена, уверенно приписывает «Комментарии» перу герцога Пармского. Зато из цитированной выше статьи Брунетти мы узнаем, что еще в 2014 г. историк Бертини обратил внимание на письмо 1571, которое, как представляется, раскрывает истинного автора – «синьора Ферранте». Подготовленная им книга могла быть использована АФ в качестве своеобразного справочника.
«Yo con estos barcos aviendo baxeles de armada no podía pasar…»: ФАРНЕЗЕ и АРМАДА 1588
Филипп запрашивал экспертное мнение АФ о высадке в Англию еще в начале 1580-х. АФ дал вполне здравую оценку, указав на необходимость сперва завершить «la conquista de los Países Bajos, ya que la posesión del puerto de Flesinga facilitaría mucho la empresa». АФ считал необходимым сохранять секретность, но уже совсем скоро десантные планы Филиппа стали секретом Полишинеля. В таких условиях АФ стал склоняться к дипломатическому урегулированию: «Farnesio, con su gran visión de la estrategia militar, percibe el riesgo de fracaso de la Armada Invencible y, con ello, el de poner en peligro su propia posición en los Países Bajos y aconseja al rey la conclusión de un acuerdo honroso…».
Филипп подхлестывал АФ пересечь канал с имеющимися судами еще до прихода Армады, что привело АФ в праведный гнев. В письмах царю он пытался популярно объяснить невозможность выступить со своими посудинами супротив голл. флота, заблокировавшего к тому времени главные порты испанцев во Фландрии. Остро встала проблема отсутствия у испанцев порта, могущего принять Армаду. Но Филипп понял это не сразу. Равно как и то, что оба командующих – Армадой и терциями – по-разному представляли поставленные задачи: «Государь слишком поздно начал осознавать проблемы координации между Армадой и армией Фландрии, трудности связи между ними и разное видение их командирами того, как это должно быть сделано…». И далее: «Medina Sidonia pensaba que Farnesio disponía de una «Armada» y que podría salir a su encuentro según llegase. Por su parte, Farnesio, como hemos señalado, reitera una y otra vez que no es el caso y que solo podrá cruzar el canal si la Armada le franquea previamente el paso…». Удивительно, подчеркивает Луис де Карлос, что только по прибытии в Кале Медина Сидония осознал необходимость безопасного порта для Армады, на чем Фарнезе настаивал постоянно. «En cuanto al recelo de no tener buen puerto, no estaba en mi mano remediarlos, que si lo estuviera ya me ingeniara en facilitar la empresa», - чуть позже оправдывал себя АФ.
Алехандро требовалось 6 дней на посадку войск и подготовку флота. Он был готов к 9.08, когда было уже поздно: «Cuando comprendió que la flota no regresaría y que el bloqueo naval inglés y holandés le impediría salir de Dunkerque y Nieuwpoort, ordenó el desembarque de las tropas»
Наш автор винит в неудаче операции лично Филиппа: «La responsabilidad del desastre debe atribuirse al rey Felipe II, que fue quien adoptó la decisión y diseñó el plan, ignorando los consejos de Alejandro Farnesio y de Medina Sidonia».
После провала похода, продолжает Луис де Карлос, против АФ была организована кампания, поощряемая приближенными герцога Медины Сидонии. АФ обвиняли в том, что он не ответил на письма герцога и не подготовил войска к отплытию, когда Армада прибыла в Кале. АФ в ответ пишет оправдательные письма Филиппу, своему дяде-тезке кардиналу Алессандро Фарнезе и другим.
И все же испанский автор вынужден признать часть вины АФ, поскольку « existían defectos en el acondicionamiento de las naves de transporte». «La responsabilidad directa era de los subordinados del duque de Parma, pero a este, como comandante supremo, le correspondía la supervisión y sobre él recaía la responsabilidad última de los defectos»
«…Lo de acá se podrá perder y lo de allá no ganar»: БОРЬБА НА 2 ФРОНТА
После напряженного 1588 г. здоровье АФ пошатнулось, отношения с Филиппом ухудшились: царь задумал более строгий контроль над финансами во Фландрии. АФ сразу ощутил дефицит денег для оплаты войск. Вскоре от Филиппа прилетел еще один «подарок». Дело в том, что во Франции католическая лига в пылу борьбы против Генриха IV обратилась за помощью к испанскому монарху, и тот приказал АФ помочь ей войсками. Наместник повиновался, хотя и попытался объяснить государю, что случается при погоне за 2 зайцами. В тот момент, когда на фландрском фронте у АФ нарисовался по-настоящему достойный соперник – молодой Мориц, царь отвлекал его на всякие Парижи и Руаны. Кампании АФ в 1590-92 гг. стали предвестниками тех непростых лет в следующем веке, когда испанцам во Фландрии пришлось вести войну на 2 фронта. АФ понимал всю опасность такого распыления сил, и в письме к царю, словно заранее расстилая соломку, писал: «no me cave ninguna culpa de los daños destos reynos que puedan suceder acá y allá».
Но во Франции обошлось без неудач: в ходе двух вояжей АФ дважды входил в Париж, один раз был серьезно ранен и ни разу не был разбит Генрихом 4.
Рана подорвала его здоровье, а интриги личного секретаря и Мансфельда – доверие к нему со стороны царя. Филипп решил снять с его должности, но предварительно приказал в третий раз отправиться во Францию. На пути туда АФ умер.
Пьемонтское Рокруа для испанских терций: Орбассано 1693
«ADEMÁS, EL ESPAÑOL NO TIENE AFICIÓN A LA INFANTERÍA…»
читать дальшеТерции в период своего расцвета – это бренд, это тренд, эталон и знак качества. То, без чего невозможно представить военные триумфы Габсбургской Испании. Еще труднее – понять ©. Уже знакомый нам историк Альби де ла Куэста утверждал: до, по крайней мере, 1600 терции составляли лучшую пехоту в Европе (От Павии до Рокруа). Вспомним и гордый ответ, который Перес-Реверте вложил в уста своего героя при Рокруа на вражеское предложение сдаться. Нечто вроде: «Вы шо, таки с ума посходили? Цэ ж испанская тэрция, я вас умоляю!» [1].
Однако дальше «что-то пошло не так». Уже в середине 1650-х Раймондо Монтекукколи, побывавший в испанских Нидерландах, ужасался морально-боевым качествам испанских воинов, « li quali non servono ad altro che a passare le mostrе ed alle comparse: ma nel combatiere fuggono, e sono solamente piazze morte » и «ogni volta che si viene a combattere credono anticipatamente di dovere essere battuti» [2]. А все тот же Альби приводит слова маркиза Энсенада, обращенные в 1751 к своему королю Фернандо 6: «además, el español no tiene afición a la infantería». Вот так меньше чем за полтора столетия раскрученный бренд «испанский пехотинец» пришел в упадок и потерял былую репутацию, не помог даже спешный ребрендинг при Филиппе 5 (создание рехимьентос взамен терсиос). В сегодняшней зарисовке мы сделаем остановку где-то в середине этого печального пути, чтобы посмотреть на поведение испанского войска в малоизвестной у нас (и отчасти у них) битве при Марсалья/Орбассано, в ходе крупнейшей европейской разборки конца 17 века – войне 1689-97 гг. В этом нам помогло великолепное итальянское издание 1993 «LA GUERRA DELLA LEGA DI AUGUSTA FINO ALLA BATTAGLIA DI ORBASSANO» (один из спецвыпусков серии ARMI ANTICHE - Bollettino dell'Accademia di S.Marciano) – в котором есть все, включая боевые расписания, реляции, иллюстрации, карты, схемы, ликбез по структуре и вооружению противоборствующих армий и т.д.
СПРАВКА: МАРСАЛЬЯ/ОРБАССАНО 1693
Для начала в качестве справки о битве приведем отрывок из Военного энциклопедического лексикона (Том VIII. 1855) про Марсалью с нашими корректировками:
«В начале Нидерландской войны (1689—1697) боевыя действия в Италш между Французами и Австро-Сардинцами ведены были с переменным успехом... Над войсками союзников начальствовали герцог Савойский и императорский Фельдмаршадъ принц Евгений. 20 сентября 1693 года армия их, в числе 36 000 чед. (44 бат., 81 эск. съ 31 пушкою) - начала осаду Пиньероля, и бомбардировала его до 1 октября. Французский полководец, маршал Катина, имея до 45000 чел. (54 бат,. 80 эскад. с 30 пушками), 2 октября направился из Сузской долины к Турину. Герцог Савойский, получив об этом известье, немедленно собрал военный советъ, на котором мнения разделились: герцог желал, не оставляя осады Пиньероля, безпрепятственно допустить маршала Катина в Туринскую равнину и здесь вступать с ним в сражение; принц Евгений с большею частью австрийских генералов утверждал, что должно на время оставить осаду города и со всеми войсками занять позищю при Сузе. Мнение герцога превозмогло. Союзники съ удвоенною деятельностью начали осаждать Пиаьероль; между тем Французы, перейдя реку Сангоне при Орбассано, усиленными маршами приблизились к Турину. Тогда только двинулись туда же союзники и 3 октября заняли позицию при деревне Марсалья, между речками Бове и Кизоло, и в продолжение ночи устроили несколько переправ чрез последнюю речку. Принц Евгений советовал герцогу овладеть сперва горою Пьоааско в прикрыть таким образом левый Фланг своей армии, но этот благоразумный советъ не бьл принят. На другой день, раво утром , союзники перешли Кизоло и развернулись к бою, примыкая правым Флангом в Вольверскому леcy; а левым, стоявшим впереди Марсальи, к р. Кизоло. Войска постройлись в две линии; герцог Савойский и генерал Капpapa командовали правым крьлом [герцог командовал всем крылом, а Капрара -только первой линией], маркиз Леганес – левым, а центром, исключительно состоявшим из пехоты, принц Евгений [ЕС командовал всей правой половиной второй линии, включая и конницу]; артиллерия расположилась в трех батареях перед Фронтом; передняя линия в продолжение ночи ycneлa оградить себя небольшими окопами. Между тем Катина выступил из Орбассано. Герцог Вандом, командовавший правым крылом Французов, заметил, что гора Пьозаско не занята неприятелем, немедленно послал туда две пехотныя бригады. Тогда только герцог Савойский сознал важность своей ошибки н навравил семь батальонов для овладения этою горою, во они пришли слишком поздно и были отбиты неприятелем [«На самом деле, плана занять высоты Пиоссаско у союзников никогда не было …, равно как и раскаяния Витторио Амедео в том, что он не занял эту позицию» - «La guerra della Lega di Augusta fino alla battaglia di Orbassano»]. Утром 4 октября, Французы также построились в две линии; конница расположилась по Флангам, пехота в середине, артиллерия перед фронтом. Правым крылом кавалерии начальствовали генералы де Вевоъ и Башввльё, левым – герцог Вандом, центром – генералы Гогетъ и Гравсё. Французы открыли сраженье пушечною пальбою с праваго крыла, где был самъ маршалъ; скоро потом apмия их двинулась вперед; правое их крыло, занявшее гору Пьоваско, без выстрела, на штыках устремилась на левое союзников, но отступило от огня австрийской пехоты [на левом крыле в принципе не было австрийской пехоты; здесь стояли терции]; пьемонтские всадники [а вот здесь как раз наоборот, имперские и выставленные Испанией полки] не выдержали натиска Французской конницы, и были отброшены на вторую линию, которая, в следствие новой атаки, также приведена была в крайнее помешательство. В то же время Французская пехота кинулась на фронт, а конница на фланги леваго крыла союзников, обратила его в бегство. Только в центре принц Евгений отразил три нападения неприятеля, безостановочно следовавшие одно за другим [геройствовал ЕС не в одиночку – в отражении удара участвовали и полки первой линии под комадой Палфи и др.]. После бегства леваго крыла союзников, Французы напали на принца Евгения слева, но он, обратившись к ним фронтом, оттеснилъ их штыками. Наконец Француacкиe жандармы опрокинули конницу праваго крыла и принц Евгений с пехотою начал отступленье к Туриву, в иродолженье котораго несколько раз останавливался для отраженья неприятеля [чрезмерный акцент на действиях принца, о роли которого имперская реляция о битве не сообщает вообще ни слова!]. Союзники потеряли 5,500 убитыми, 2,000 ранеными и столько же пленными, из которых большая часть были Пьемонтцы, ибо Французы не давали никакой пощады Имцерцам [скорее, испанцам]. 24 пушки достались победителям, потеря коих не превышала 3,000 убитыми и раневыми. Принц Евгений собрал разсеянную армию в укрепленном лагере при Монкальери и присоедивел к ceбе пьмонтское ополченье. Катина оовободил от осады крепость Казале, наложил контрибуцию за Пьемонт, снабдил Сузу и Пиньероль войсками и запасами всякаго роду и, перейдя обратно Альпы, отправился к Безансону».
ПОЛВЕКА ПОСЛЕ РОКРУА: испанские войска против французов в Италии
В цикле про Рокруа мы разбирали миф о «конце испанской пехоты» - заботливо сотканный французской историографией и пронесенный ею сквозь столетия. И мы видели, как некоторые испанские историки, принципиально не отрицая «конца», методично отодвигали его куда подальше, к тем же Дюнам. В испанской историографии тезис об устаревании тактики и боевых качеств исп. войск в правление последнего испанского Габсбурга подвергся яростному опровержению: терции были все еще ого-го, просто денег нема. «El ejército finisecular de Carlos II se encontró en un aparente callejón sin salida no por emplear tácticas desfasadas y no saber evolucionar hacia la guerra de línea, ni por contar con una oficialidad inoperante, sino por unos problemas heredados que pueden resumirse en la asfixiante falta de fondos», - читаем мы у Aitor Díaz Paredes.
"В Италии, испанский контингент в Пьемонте и Савойе, несомненно, был самым многочисленным и наилучшим образом оснащенным средь союзных ратей... Его поведение в великих полевых сечах при Стаффарде (1690) и Марсалье (1693), где он понес наибольшее число жертв, во взятиях Карманьолы (1691), Эмбруна (1692) и Казале Монферрато (1695) и во вмешательствах в Мирандоле (1696-97) и Кастильоне (1699) восстановило авторитет и престиж короны и показало, что армия сохранила высокие маневренные способности и все еще умела успешно действовать" – пишет в своей статье историк Маффи.
Испанский вклад в антифранцузскую коалицию был действительно велик. В кампании 1693 пехота представлена 5 исп. (Lombardia, Savoya, Napoles, Lisboa и S. Pedro), 1 неаполитанской [3], 3 ломб. терциями, 3 нем., 1 гризонским и 2 швейц. полками. Это составляло около 9300 (=47% всей союзной пехоты - 19700). Доля собственно испанцев в интернациональной пехоте Миланесадо была высокой: для 1693 года, по данным Маффи, это 33% (Maffi. La cittadella in armi. Esercito, società e finanza nella Lombardia di Carlo II 1660-1700).
Кавалерия: Caballería del Estado, полк драгун, 5 рот неапол. кавалерии, 6 рот иностр. кавалерии, 1 кав. и 1 драг полки Вюртемберга. Из 87 всех союзных эскадронов 26 были даны Испанией. Артиллерия: 12 орудий.
На 20.09 в 11 терциях и полках в лагере под Осаско имелось 6725 чел + ? (около 1000) в полках гризонов и швейцарцев, в кавалерии – 2446. Командовал всем этим людом лично Диего Фелипе де Гусман маркиз де Леганес, губернатор Миланесадо с 1691. «Он был джентльменом, у которого не было ни одного недостатка, присущего его соотечественникам, и у него имелись почти все достоинства…» - читаем мы его характеристику у одного савойского генерала тех времен. «Несмотря на свою храбрость, он отправился на войну с безразличием, влекомый другими: ни предложения, ни искры гениальности, ни признака готовности к борьбе. Его высшее стремление: блокировать Казале и занять зимние квартирки - предложение, которое неоднократно и упрямо повторялось (им) на военсоветах. Он не мог не испытывать зависть к герцогу (Савойскому), который, в свою очередь, не мог не страдать от равнодушия испанских генералов» (Франческо Стеррантино). Когда во время осады союзниками Пиньероля стало известно о приближении фр. армии, Леганес предложил довольно здравую идею отступить на восток, к По, к лагерю Тальяларго у Монкальери, что позволило бы оборонять Турин и располагать провиантом. Этим маневром союзная армия избежала бы угрозы внезапного нападения на марше. Вместо этого союзники двинулись на северо-восток, напрямую к Турину, подставляя свой левый фланг под угрозу фр. удара, чем французы и воспользовались.
Маэстро де кампо хенераль при Леганесе был граф Лувиньи, о поведении которого при Марсалье все тот же савойский воевода писал: «Лувиньи позволил испанским войскам идти в бой по частям, и война в Пьемонте закончилась бы, если бы Катина воспользовался победой». «если у него есть недостаток, то это то, что он слишком долго и слишком глубоко вникает в некоторые вещи, которые не являются важными». Неизвестно, проявился ли этот недостаток при Марсалье, но в самый критический момент битвы, как напишет пьемонтская реляция, «граф Лувиньи, усугубленный очень долгой болезнью и годами, почти не давал о себе знать».
«LA BATAILLE DE MARSAGLIA EST LE ROCROY DE CATINAT»
Марсалью называли Рокруа Катина, подчеркивая значение этой победы в военной биографии маршала (Les émaux de Petitot du Musée impérial du Louvre… 1862). В тактическом плане Марсалья также похожа на этот ранний триумф герцога Энгиенского. В обоих случаях - (почти) одновременный обмен ударами правыми флангами [бой велся и в центре, но в конечном счете ушел в тень на фоне решающих действий на флангах], и снова французский оказывается мощнее, и снова пехота проигрывающей стороны в итоге остается одна… Все закономерно: кто быстрее выигрывает свой фланг и развивает успех дальше в тылу врага, тот и побеждает. Катина выиграл его как минимум на 15 минут быстрее, чем это сделали союзники. Отметим рокировку жандармерии: Катина отказался от ее услуг на своем ударном правом фланге и перевел на левый, где ей придется сдерживать главный вражеский натиск. Во французской реляции эта перегруппировка признана «un coup capital» - в итоге жандармерия на левом фланге «сделала все, что можно ожидать от непобедимых войск». Ударный фланг французов был подкреплен доп. кавалерией и батальонами; однако, глядя на фр. боевой борядок, сразу и не скажешь, что удар задуман именно правым флангом: здесь было сосредоточено 36(35) эскадронов и 4 батальона, а на левом – соответственно 40 и 7. Резерв из 4 эск и 2 бат, судя по его расположению, тоже был ориентирован скорее на помощь центру и левому кав. крылу, а не в подкрепление ударного фланга. Отдадим должное эффективности фр. артподготовки, которая положила начало разгрому полка Коммерси (на схеме показана его перегруппировка из первой линии на фланг к терциям прикрытия – якобы там он оказался согласно реконструкции итальянских историков).
У союзников – почти идеально равномерное распределение сил в боевом построении как «вдоль» (две линии с равным количеством батальонов (17+17), хотя и с перевесом эскадронов в первой линии), так и «поперек» (по 36 и 39 эскадронов в двух линиях на крыльях). Налицо великолепный образчик симметрии тонких построений эпохи линейной тактики, разве что 4 вынесенных вперед батальона Religionari подпортили картину. Резервом союзники не озаботились, зато, чуя неладное, прикрыли левый фланг 3 терциями.
В самой битве оба союзных крыла дрались, по сути, автономно и не знали до поры, что творится у соседа. Наоборот, Катина, как указано во фр. реляции, синхронизировал действия своих крыльев, приказав Вандому не лезть до особого сигнала.
В реляциях особенно подчеркиваются действия французов холодным оружием – что пехоты со штыками (воткнутыми в дуло), что кавалерии – против левого крыла союзников. Особо чудодейственный эффект приписан штыковой атаке – вот где воплотилась «французская фурия»! «Les ennemis avaient mêlé des escadrons de distance en distance, surtout en front de bandière. Ceux qui se trouvèrent dans l’infanterie furent chargés sans tirer la baïonnette au bout du fusil, et furent renversés». Катина, как утверждается в вышепомянутой итальянской книге, отказался от пики еще с 1690 из-за рельефа Пьемонта. Однако автор французской гравюры битвы то ли что-то знал, то ли действовал по привычке, но все ж нарисовал батальоны своей пехоты с торчащими в центре «столбами» пик. Испанцы якобы тоже отказались от этой масти на данном театре по тем же причинам, что и их северные соседи, благо штыки у них распространялись еще с 1685. Но точных данных опять же нет.
ФАНТОМНЫЕ ТЕРЦИИ во французских источниках
Где именно располагались терции во время боя? Вопрос не такой простой, ибо документ с БП союзной армии не сохранился или еще не откопался (но он определенно был, о чем мы узнаем от имперской реляции). Есть как минимум 3 разные версии, составленные французами – в работе Кенси о войнах Людовика 14, в издании писем и бумаг Катина и на французской гравюре битвы, где БП представлены Лапара де Фье. Итальянские исследователи из вышепомянутой книги про Орбассано, в свою очередь, вывели союзный БП на основе пьемонтских, испанской и имперской реляций. Если сравнить полученное с представленным французами БП, то выяснится, что победители расположили большинство вражеских частей абсолютно неправильно, и лишь состав первой пехотной линии союзной армии пострадал меньше всего. А это значит, что распространенное по интернет боевое расписание (см. vial.jean.free.fr/new_npi/revues_npi/16_2000/npi_1600/16_odb4_041093.htm), приближаясь скорее к филькиной грамоте, нуждается в тотальной правке. Расположение отдельных частей в нем отражено абсолютно неправильно, что не позволяет понять ход битвы при чтении источников.
В этом расписании есть и более серьезные ошибки. Например, терция маркиза Porlezza, которая в реальности в битве не участвовала от слова «совсем», затесалась-таки на французской гравюре под именем Porlesse (см. фрагмент). Еще одна грубая ошибка связана с раздвоением терций, размещенных для прикрытия левого фланга: на гравюре они представлены и как безымянные батальоны на данном фланге (где они в реальности и были), и во второй линии - под именами «Ully» (очевидно, Alis; у Кенси и в собрании документов Катина – это вообще «Сujessi»), «Lissa» («Delissa» там же) и «Napolitain» (в списке пленных - Royaume de Naples), где их не было в помине. Вот так в боевой порядок союзного войска французы в прямом смысле пририсовали как минимум 4 лишних терции-фигаро.
Как видим, французы вообще не заморачивались такими пустяками, как названия терций, что еще ярче проявилось в опубликованном в «Mémoires et correspondance» Катина списке плененных при Марсалье союзников. Пленные эти сгруппированы по полкам, в перечне коих мы встречаем две любопытные терции – Lisboa и Lisbonn. Неужто составитель списка не различил до безобразия похожие наименования столицы Португалии на испанском/португальском и французском языках? . Сюрприз продолжится, если вчитаться в имена пленных: в первой терции указан некий «подполковник» - дон Diego de Concha, во второй – дон Diego de Conchia, только уже сархенто майор; в первой - Jean Baptiste Boyer, во второй - Jean Baptiste Voyer (ох уж эти испанские b и v), в первой – альфересы Ouris, Morene, Justinianо, Ignacio Nauvé, во второй – Oris, Moreno, Jean Justinian, Ignace Navarrо. Однако имена других офицеров в обеих терциях по большей части отличаются друг от друга!
Курьез еще в том, что ни в боевом порядке, ни на гравюре, составленными французами же, об этих терциях нет упоминаний, а Lisboa не фигурирует даже под именем своего командующего Pimentelli. Судя по изменениям в написании имен, пленные терции de Lisboa могли быть попросту дважды допрошены разными ответственными за это дело лицами, и, следовательно, их имена оказались продублированными для двух разных терций. Почему тогда остальные имена в этих терциях не совпадают? Для ответа нужно пробежаться по всему составу терций в списке: поскольку в нем отсутствует информация о Tercio de Savoya – одной из наиболее пострадавших в битве, с большей долей вероятности именно ее пленные и отнесены к терции Lisbonne.

Фрагмент французской гравюры битвы при Марсалье. Состав второй линии почти полностью некорректен: обрамленные прямоугольником полки на самом деле располагались на противоположном – правом – фланге, обведенные овалом во второй линии терции размещались слева, а терции Porlesse не было вовсе. Расположение и названия 5 терции первой пехотной линии показаны на удивление правильно, разве что напутано имя итальянской терции Bonesana. Первая линия левого конного крыла включает часть полков, которые в реальности стояли во второй линии.
Теперь обратимся к правильной расстановке (см. ниже схему с фрагментом левого фланга союзного войска). Испанцы шли в арьергарде, а когда пришлось спешно перестраиваться в боевой порядок из походного, вышло так, что они оказались на «любимом» левом фланге (см. ниже конспирологическую версию о причинах сей оказии).
4 собственно испанские (Lombardia, Savoya, Napoles и S. Pedro) и 1 итальянская (Бонезана) терции стояли на левом фланге первой линии. Их сила колебалась от 600 до 700 чел (на схеме дана численность в конце сентября). Правее них стояли 2 немецких полка, нанятые той же Испанией. Позади, во второй линии развернулись еще 3 наемных полка (1 нем. и 2 швейц). Кроме того, 3 терции (1 исп, 2 ит: в сумме – около 1500) были развернуты под прямым углом для прикрытия левого фланга всего союзного боевого порядка.
Испанская кавалерия развернулась в двух линиях левого крыла союзного воинства. Здесь выделим Cavalleria del Estado (de Milan) – всего было 6 эскадронов, около 600 всадников, Cavalleria Extrangera из 2(?) полков (в сумме 6 эск) – свыше 500, 2 полка dragones (6 эск) – свыше 600. Но в первую линию были добавлены и имперские полки - Коммерси, Таффа и Байретский (см. схему, цифры означают количество эскадронов). Их поставили с краю, на более опасном участке. Сделано это было, как можно догадаться, отнюдь не от большого доверия к боевым качествам испанской конницы. Коммерси в итоге взял командование всей первой линией левого союзного крыла.

« LI TERZI SPAGNOLI … HANNO COMBATTUTO AL SUO SOLITO»
Испанская реляция делает акцент на том, что из-за внезапного появления французов левое крыло (где и находился исп. контингент) и тыл вынужденного остановиться союзного войска оказались совершенно неприкрыты, далее завязалась арт. дуэль, и времени для фортификационных работ уже не было. Французы за время артподготовки узрели удобство местности для конских копыт и подтянули 12 «батальонов кавалерии» (а пешие части в реляции называются «эскадронами пехоты» – в ту эпоху у испанцев все еще в ходу такие непривычные для нас обороты; о пехотном эскадроне см. «Испанские терции»). Видя это, Леганес бьет тревогу, усиливает испанскую кавалерию левого крыла двумя соседними терциями из первой линии (Ломбардия и Савойя) и запрашивает у герцога Савойского еще 3 полка подмоги. (Виктор Амадей посылает даже больше - 4, в их числе баварский на пьемонтской службе, из второй линии, уже задерганный к тому моменту перебросами туда-сюда вдоль линии фронта).
Сам решающий момент боя в реляции нарисован грубыми мазками:
«...и всюду французы бросались разряжать мушкеты, несмотря на то, что наши выстрелы наносили большой урон, в то время как с огромной массой кавалерии они поражали нас со шпагой в руке; и несмотря на то, что пехота Короля [испанского Карлоса II, вестимо] дала такие выстрелы, чтоб привести ее [массу вражеской конницы] в конфузию, [французский] кавалерийский батальон достиг второй линии [кавалерии союзников на левом крыле], и через короткое время некоторым батальонам имперской кавалерии [упрек Коммерси и иже с ним] пришлось отступить c первой линии и в своем отступлении они смутили вторую линию [состоявшую только из кавалерии, поставленной Испанией]…» Ну, это понятно, что если бы не дрогнувшие имперцы, то стоявшие рядом с ними dragones del Estado и dragones de Vitembergh, равно как и нанятые Испанией полки второй линии всыпали бы французам по первое число …
Напрасно, продолжает реляция, герцог Сесто (командующий второй линией левого союзного крыла, которую так подставила первая) размахивал шпагой: «пехота [очевидно, в первую очередь испанские терции первой линии и терции прикрытия], видя себя покинутой защищавшей ее кавалерией и атакованной со всех сторон одновременно, не могла действовать, как хотела, и поэтому супостатская кавалерия продолжала свои атаки волнами, на фронте и во фланг первой линии, продолжая атаку мало-помалу до правого [союзного] крыла, так что, поскольку мы уже не [были] в состоянии сопротивляться, она заставила нас отступить наилучшим образом…» Сразу вспоминается ситуация при Рокруа, когда испанские пехотинцы в итоге остались одни, но, правда, не отступили. Также отметим, что в реляции нет упоминаний о действиях 3 терций прикрытия – а ведь судя по списку потерь, они тоже выдержали жаркий бой.
Пьемонтская реляция сокрушается по поводу слабого сопротивления левого крыла и, так сказать, «фальты де кавесас» (отсутствию у испанцев «бравых генералов»), что и привело к поражению всего войска:
«Mai vittoria s'é creduta più certa da parte nostra di questa, si sperava che l'ala sinistra [союзной армии] avrebbe, se non caricato, resistito al nemico, ma al primo ritirarsi che fecero qualche squadrone della Cavalleria dello Stato [т.е. Cavalleria del Estado de Milan] e al piegare di qualche battaglione nella prima linea della detta ala sinistra [уж не имеются ли в виду привлеченные Леганесом испанские терции Савойя и Ломбардия?], non si trovarono Uff . Generali per riparare al disordine, e prendendo il nemico per il fianco, non vi era pure chi facesse allongare la seconda linea [кавалерии левого крыла] e conducesse squadroni a caricarlo, oppure prendesse quel partito che in simile occasione suole prendersi da bravi Generali». [4] Напомним, что из 5 командующих терциями первой линии были убиты как раз те двое, что были призваны Леганесом на усиление левого кав. крыла.
Сопротивление испанцев, согласно пьемонтской реляции, было настолько недолгим, что посланные Виктором Амадеем 4 полка уже не застали маркиза Леганеса – он якобы покинул поле боя к полудню, как и Филиппо Спинола (битва началась всего 3 часами ранее, но в первые часы велась лишь канонада).
Любопытная характеристика дана действию терций: «Li Terzi spagnoli che havevano Mastri di Campo alia testa hanno combattuto al suo solito». Терции сражались как обычно. Это укор или похвала? Плохо или хорошо? Если исходить из дальнейшего текста, то все-таки плохо: «Другая Терция… отступила, не сделав почти ни одного выстрела… Граф Бонезана ранен, он и его сархенто-майор доблестно сражались, но не были поддержаны своей Терцией, которая, пальнув, немедленно обрушилась [т.е. беспорядочно отступила] на [пьемонтский] полк Croce Bianca … который находился позади нее [в центре второй линии]».
Наконец, читаем имперскую реляцию: «Правое крыло противника обошло наше левое, так что французы могли атаковать его одновременно с фронта и с фланга, где располагался полк Коммерси с тремя батальонами [очевидно, те самые 3 терции прикрытия], поддержанный четырьмя, посланными [герцогом Савойским] с правого фланга. Принц Коммерси, командовавший тремя императорскими полками слева, сдерживал и отбивал все атаки противника, который, прорвав линию в центре и не встретив особого сопротивления, разбил его со всех сторон, так что все крыло было разбито вместе с несколькими пьемонтскими батальонами с правого крыла…». Левое союзное крыло, надо полагать, сначала было обойдено и взято с трех сторон, а потом оказалось полностью окруженным из-за прорыва французами центра союзной пехотной линии. Кстати, центр частично оборонялся все теми же терциями – том стояли Бонезана и S. Pedro.
Имперская и пьемонтская реляции предсказуемо валят всю вину на левое крыло, т.е на испанцев, которые не смогли долго сопротивляться, а надо было протянуть совсем чуть-чуть: «если бы левое крыло оставалось на своих позициях на четверть часа дольше, сражение, несомненно, было бы в нашу пользу». Из имперской реляции следует, что левое крыло было разгромлено французами издевательски быстро – меньше чем за час!
Увы, терций надолго не хватило, равно как и выставленной Испанией кавалерии. Например, Cavalleria del Estado de Milan, наиболее многочисленный корпус испанского конного контингента, удостоилась в свое время следующей авторитетной характеристики: "... самый жалкий отряд, который когда-либо существовал в мире, предмет всеобщего насмехательства... Ее нельзя назвать полком, и можно с уверенностью сказать, что она никогда не осмелится подпустить врага ближе, чем на 200 шагов, не дав деру".
«ON PEUT COMPARER CETTE JOURNÉE A CELLE DE ROCROY, OÙ L’ESPAGNE PERDIT TOUTE SA BONNE INFANTERIE».
Французский журнал о кампании 1693 рисует крайне неприятную для гордых терций картину: испанцы в какой-то момент боя вставали на колени, просили пощады и показывали четки (мол, мы же с вами католики-единоверцы), но французы в пылу борьбы успели все же поубивать многих. Это напомнило автору журнала аналогичный эпизод «французской ярости» в битве при Рокруа, «где Испания потеряла всю свою прекрасную пехоту». Воистину, для испанской инфантерии 4 октября 1693 стало днем не менее черным, чем 19 мая 43-го. Именно испанские войска составляли почти половину всей союзной пехоты, и именно они попали под главный фр. удар. Неудивительно поэтому, что в составленном французами списке убитых врагов фигурируют в основном терции + нанятые Испанией полки. Из других союзных формирований французская ведомость решила упомянуть всего лишь 3 полка. «Jе crois toute l’infanterie ennemie dans un très-pitoyable état…», сообщал своему государю Катина после победы.
Французские списки и испанская реляция дают понять, насколько большие потери понесли терции в офицерском составе. В 5 терциях первой линии, принявших на себя удар, были убиты 2 маэстро де кампо (т.е. командующие этими терциями), 1 ранен. У «Ломбардии» был убит сархенто майор. Что касается капитанов, то некоторые терции лишились большинства :
Lombardia – 8-11 убитых и 2 пленных
Savoya – 12 убитых и ? пленных
Napoles – 10 убитых и 5 пленных
S. Pedro – 12 убитых и 2 пленных
Бонезана – 6 убитых и 4 пленных
В 3 выделенных терциях «прикрытия» 1 маэстро де кампо убит и 1 ранен. Среди капитанов:
Lisbona – 14 убитых
Francia (во фр. реляции - Royaume de Naples) – 8 убитых + 2? пленных
Алис – 8 убитых
Кроме того, в нескольких терциях убито большинство альфересов и сархентов (это сообщает уже испанская реляция, ибо подсчетами всех, кто ниже капитана, французы и не думали заморачиваться). Учтем, что в 5 исп. терциях насчитывалось в сумме 74 роты, в среднем по 25 на терцию, в терциях «прикрытия» - соответственно 44 и 15. Гибель 3 из 8 маэстро, по 12-15 капитанов на терцию и множества нижестоящих могут свидетельствовать и о крайне напряженном характере битвы, и о... резне, про которую вспоминал автор вышецитированного «Журнала». Потери пехоты были наглядно зафиксированы ближайшим смотром, проведенным в ноябре 1693 (все цифры – от Маффи). Если в марте и июле численность пехоты Миланесадо составляла 15468 и 17814 (правда, в последнем случае – с учетом еще и гарнизонной), то в ноябре она резко падает на добрую треть - до 10530. Численность кавалерии проседает на 4 сотни человек. От такого удара ломбардское эхерсито отойдет только к июню 1695.
В силу всего сказанного характеристика битвы в испанской реляции - «la batalla ha sido de las más crueles que se han dado de mucho tiempo à esta parte, pues al principio, ni de una parte, ni de otra se dava quartel» - отнюдь не выглядит художественным преувеличением, столь свойственным документам подобного жанра.
* * *
И в заключение – немного конспирологии касательно истинного виновника постигшей терции трагедии. Еще испанская реляция, как мы видели выше, жаловалась на то, что левое крыло при развертывании к бою оказалось совершенно незащищенным (чем и воспользовалась по полной фр. кавалерия). Один из авторов упомянутой итальянской книги про Орбассано, Франческо Стеррантино, прямо обвиняет в этом главкома – герцога Савойского, который уже давненько вел двойную игру (тайные переговоры с французами). «Витторио, ведя ночной контрмарш вправо, попытался добраться до Орбассано, что означало надежную безопасность для правого крыла, но, напротив, означало, что неаполитанские, миланские и испанские терсиос будут брошены на произвол судьбы… Вельми жестокая битва 4 октября ознаменовала почти полное уничтожение испанского контингента, чьи генералы, столь же гордые и высокомерные, сколь малодушные и некомпетентные (окромя Лувиньи), уже к полудню отошли в Мирафиори. Витторио Амедео хотел проиграть битву, более того, он хотел, чтобы ее проиграли испанцы, чье высокомерие (герцог Сесто), мелочность (Леганес), осторожность (граф Лувиньи), подлость (де Лас Тонс) он не мог сносить». Дорого же обошлось простым рядовым терций раздражение Его Королевского высочества…
[1] В оригинале: «Decid al señor duque de Enghien que agradecemos su oferta... Pero éste es un tercio español". Не настаиваем на единственной верности нашего перевода
[2] Раймондо. Путешествия / Под ред. А Джиморри. Модена, 1924
[3] Неаполитанскую терцию под командой Антонио ди Франча не стоит путать с испанской терцией Nápoles.
[4] Кстати, отметим в связи с данной «фальтой де кавесас» курьезную концентрацию в союзном войске генералов с громкими полководческими именами: Спинола, Кордова, Монтекукколи - внук, [непонятно кто] и сын соответствующих великих военачальников.
@музыка: ток-шоу Окна
@темы: это ж испанская терция!, Катина, Марсалья, Орбассано
1. Записки против Афоризмов. О русском переводе Монтекукколи (Я. Семченков)
2. Психология и эстетика мясорубки: трактат "Delle battaglie"
3. "Tous deux avaient réduit la guerre en art": Тюренн vs Раймондо как профессионалы войны
4. DELLE BATTAGLIE 2: "le ultime parole del Montecuccoli tattico"
«QUI VI SONO LE ULTIME PAROLE DEL MONTECUCCOLI TATTICO»
читать дальшеСпустя десятки лет после своего первого размышления о битвах (см. ПСИХОЛОГИЯ И ЭСТЕТИКА МЯСОРУБКИ), РМ снова обратился к тому, что он называл самой почетной частью войны. Результат этого обращения получил такое же название (DELLE BATTAGLIE) и привел к путанице с первым трактатом. Хотя сама рукопись относится к началу 1670-х, ряд авторских ремарок свидетельствует о том, что работа началась где-то вскоре после окончания Тридцатилетней войны. Так, РМ говорил про «l’esperienza di 22 anni di guerra nella Germania» и, видимо, разумел именно свой личный опыт, что отсылает к периоду после 1648 (ибо служба раймондова формально началась в 1626). Упоминание о битве при Лансе (где Конде в очередной раз побил испанцев) как «свежем примере», также указывает на время написания после 1648. Редактор и комментатор двухтомника трудов РМ Раймондо Лураги вполне логично относил начало работы над трактатом к ранним 1650-м [1].
Второй трактат о сечах получился заметно короче первого: изменилась структура, уже нет столь глубокого погружения в нюансы элементарной тактики, а некоторые аспекты оказались и вовсе опущены. Что примечательно, все основные примеры РМ по-прежнему берет преимущественно из опыта Тридцатилетней войны; войны 1650-х и 60-х, участником и свидетелем коих он был, почти не получили отражения. И лишь в самом конце работы дают о себе знать реалии начала 1670-х: автор подбирает наиболее подходящий боевой порядок для битвы с французами.
Значение второго раймондова трактата о сечах оценивается высоко. По крайней мере, его учеными соотечественниками. Так, тот же Лураги, называя это произведение «le ultime parole del Montecuccoli tattico», не скупился на похвалы: « Здесь можно найти все, о чем теоретизировал Жомини, все, что осознали Фридрих Великий и «Каменная Стена» Джексон, изложено с предвидением и ясностью идей, что не может не удивлять… И, как он появляется уже на десятилетия впереди своих учителей, Густава Адольфа и Валленштейна, так он превосходит свое время, предвосхищая не только Наполеона, но и (говоря всегда об общих принципах) кондотьеров будущего, вплоть до нашей эпохи и даже дальше».
Не вполне разделяя подобное восхищение, мы пробежимся по наиболее интересным (для нас) аспектам этого своеобразного «тактического завещания» РМ.
« LA PARTE PIÙ NECESSARIA … DELLA GUERRA»
Трактат у РМ, как всегда, начинается с теории: « Il sapere è un conoscere le cose per le loro cagioni, onde a voler ben giudicare della natura loro bisogna riddurle e risolverle ne’ primi principi… Io ho preso ad essaminare, con ogni accuratezza e con molto esatta osservazione de’ casi successi, li vantaggi del combattere e le ragioni delle vittorie…». РМ, давший примерно по 1 крупной битве на каждое десятилетие своей военной карьеры, называет битвы самой насущной частью войны. «Потому что день, когда ты побеждаешь, стирает все твои другие [т.е. предыдущие] плохие действия; и вот, потеряв его [т.е. проиграв сражение], все, что ты сделал хорошего, остается тщетным».
В первой главе – о преимуществах (выгодах) – РМ перечисляет 4 их источника. Один из важнейших принципов (преимущество № 2) – «che li preparati attacchino gl'impreparati». Любопытен здесь и набор примеров для совета «атаковать врага с нескольких сторон и отрезать ему путь к отступлению»: «так, Фридберг был дважды спасен Мараццино, а затем герцогом Амальфи, Бриг был спасен эрцгерцогом, Глогау - Торстенссоном, ВИТТЕНБЕРГ БЫЛ ВЫНУЖДЕН ОТСТУПИТЬ ИЗ МОРАВИИ В НИЖНЮЮ СИЛЕЗИЮ ИЗ-ЗА МОНТЕКУККОЛИ (имеется в виду кампания 1646; капслок наш), а Врангель и Тюренн были вытеснены из Баварии». Правильно, сам себя не похвалишь – никто не похвалит!
От преимуществ РМ переходит к «фундаментальным максимам» (глава 2). Снова постулируется непробиваемость батальона пикинеров для кавалерии, «и никто, кроме противостоящей пехоты, не может его разрушить». Мушкетеров надобно прикрывать – пиками, местностью. Каково же оптимальное соотношение между пикой и выстрелом? «Пропорция, которая используется в нашей пехоте, 2 мушкета на 1 пику…». В четвертой главе, устанавливая размер оптимального войска, РМ предлагал на 3000 пикинеров 6000 мушкетеров. Это означало регресс по сравнению с первым трактатом, где на одного пикинера приходилось почти 3 мушкета/мушкетона. Зато исчезают targhe (=rondaccie и т.д.), что уже является прогрессом, ибо в первом трактате РМ желал видеть почти 1000 подобных щитоносцев из 24 000 всей пехоты.
Как действовать накануне и непосредственно в ходе сражения РМ поясняет в главе «Delle osservazioni». Здесь он в нескольких местах повторяет уже написанное ранее в «Афоризмах». Сравните, например:
«Aver sempre alla mano di tutte sorte d’armi le quali si possano adoperare conforme il bisogno, senza romper o smembrar l’altre parti della battaglia, perché il sito si cambia, l’ordinanza del nimico si muta e nascon accidenti inopinati» (О сечах 2)
«Formar l’ordinanza coll’impiegar l’arme ne’ loro vantaggi e dove non restino oziose, […] per adoprarle al bisogno, senza romper, o smembrar gli squadroni, conciò sia che il sito si cangia, l’ordinanza del nimico si muta, e nascono accidenti impensati…» (О войне с турком в Венгрии = Афоризмы)
РМ агитирует за наличие резервов, ставя в отрицательный пример Тилли при Брайтенфельде, а в качестве положительного – Банера при Виттштоке. Подчеркивается важность иметь свежих людей на смену уставшим. Отметим и внимание автора к артиллерии – о ней он говорит в числе первых рекомендаций для подготовки боя и с нее же начинает раздел про ведение самой битвы. Перед битвой РМ по традиции советует возносить молитвы Богу (однако сейчас эта заповедь стоит только на 13 месте из 15, тогда как в Афоризмах и Военных таблицах – неизменно на первом). Правда, другой предлагаемый совет звучит отнюдь не по-христиански:
«Первая шеренга эскадрона должна стрелять главным образом в офицеров противостоящего эскадрона и иметь людей, расставленных для быстрого убийства главы вражеской армии». Это настойчивое, если не сказать маниакальное, желание ликвидировать вражеского главкома прослеживается и в более ранних работах итальянца. РМ за свою долгую карьеру не раз мог наблюдать катастрофическое влияние гибели главнокомандующего на его армию, и всего через 2 года после написания данного трактата, 27 июля 1675 г., ему предстояло убедиться в этом еще раз.
РМ по традиции обстоятельно распространяется о численности и составе войска. По сравнению с первым трактатом оно становится меньше и мобильнее: 20 000, причем доля кавалерии возрастает с 1/3 до половины. РМ объясняет это природными условиями Германии, где он, стало быть, и собирался оперировать таким сравнительно небольшим корпусом (для войны с турками он предлагал на порядок бОльшую армию). В кавалерии увеличивается доля легкости (Croati), а разбухшая типология тяжелых всадников (lance и т.д.) наконец-то упрощается до corazze. Для сих последних РМ предусматривает массивную атаку в «in isquadroni grassi e corpo formato» без ненужных понтов («senza pigliar caracollo»).
Анализируя fatti d’arme во Фландрии и Германии, РМ пришел к логическому выводу о необходимости обеспечить фланги пехоты, ибо без своей кавалерии пехота «persa d ’animo, getta via l’arme e si rende». Как же справится с проблемой? Элементарно: «Per assicurar i fianchi, non veggo cosa migliore che avere una quantità di moschettieri su l’estremità dell’ale, che con tiri continui infestino l ’inimico, li impediscano d ’accostarsi». Отметим и важность непрерывности стрельбы, и то, что, опричь этих мушкетеров, рядом с каждым кавалерийским эскадроном должен был находиться пелотон мушкетеров. РМ настолько озабочен тем, чтобы фронт баталии полностью простреливался (этот принцип чуть ниже он назовет помещением врага «fra una forbice») что требует расставлять мушкетеров через каждые 600 шагов. Но эта прихоть, как снежный ком, влечет за собой целый ряд дополнительных забот. Ведь мушкетеры нуждаются в прикрытии, поэтому следует подумать об естественных или искусственных преградах, то есть нужны соответствующие инструменты и причиндалы. А если их нет или они в тягость, надо выделить в помощь стрелкам батальон пикинеров. Но расположение таких батальонов по краям боевого порядка, в свою очередь, делает необходимым подготовить их к атакам со всех сторон, поэтому лучше отказаться от обычных 6 шеренг и построиться даже не квадратом, а многоугольником с дырой в центре для мушкетеров. Так РМ возвращается к идее восьмиугольного батальона из первого трактата «О баталиях»; теперь он называет это «бастионом», и действительно, боевой порядок все больше предстает неким подобием крепости. РМ последовательно настаивает на принципе «sussidio reciproco».
«ПЕРВЫЙ ТЕОРЕТИК БИТВЫ КРЫЛА»
В пятой главе читателю представлена «фундаментальная модель и архетип оптимальной формы» боевого порядка. Пехота строится в две линии, но первая сильнее второй и отдельные батальоны вынесены на края для пущей устойчивости («фланги прикрываются батальонами пик, которые являются самым прочным, самым устойчивым и самым непробиваемым оружием в армии...)». Кавалерия раскидана равными группами: corazze – по флангам первой линии, во второй линии, в резевре; кроаты – «cinque a cinque» впереди резервов и позади второй линии. Задачей кроатов, «che stanno come cani a lassa», является преследование разбитого врага, вылазки по флангам и причинение прочего беспокойства. РМ печется о принципе «rinnovar il combattimento», подготовленного глубоким построением.
Также предлагается диверсия в тылу врага спецотрядом во время боя. Здесь РМ возвращается ко все тому же принципу «i preparati attaccano gl’impreparati», который был обозначен как «преимущество» в первой главе.
Начав разрабатывать ее еще в первом трактате, РМ подробно излагает концепцию битвы, получившую в дальнейшем известность благодаря Фридриху Великому с его «косым боевым порядком», т.н. «баталия крыла», согласно которой ваш усиленный фланг дерется со слабым вражеским, в то время как его сильный НЕ дерется с вашим слабым [2]. «Se con l’ala dritta si vuol battere per fianco il corno sinistro dell’inimico, si devono mettere su quest’ala li migliori soldati et anche maggior quantità... E quando si va ad azzuffarsi, l’ala destra si muoverà con passo veloce e le truppe di dietro si spingeranno su la mano destra al pari delle altre, e l’ala manca andrà pian piano o non si muoverà punto, perché in questo modo l’inimico, sospeso, prima che conosca quello che tu vuoi fare e che si risolva di quello ch’egli vuol fare, terrà a bada il suo corno destro…» Развивая мысль, РМ допускает и действие обоими флангами. Здесь на первый план выходит принцип «calculazione del tempo» и «misura del moto».
Экспериментирует РМ и с инверсией линий боевого порядка: против французов предлагает выставить вперед вторую линию (более слабую, чем первая, оставленная позади). Почему? Это связано с боевыми качествами французских воинов: «il naturale dei quali essendo, nel principio, del combattere più che d’uomini; e nella fine, meno che di femine…». Характеристика, как видим, нелестная и даже довольно уничижительная. Зря он так… Впрочем, в самом построении крылся резон: первая линия намеренно приносилась в жертву французской ярости, чтобы затем мощная вторая могла добить французов. Однако идея такого гамбита не лишена риска: «perché non ci potiamo oggidì prometter tanta virtù ne’ nostri soldati che, vista rotta la prima fronte (т.е. первой линии), non si smarriscano e sieno capaci di ributtar il nemico vittorioso», как заметил сам РМ несколькими страницами раньше. Вот почему он заостряет внимание на необходимости заранее предупредить воинов второй (экс-первой) линии про разгром первой (экс-второй): «che questo è fatto a dissegno».
А теперь вопрос на засыпку: последовал ли сам РМ своим рекомендациям по борьбе с французами при развертывании войска в так и несостоявшемся сражении с Тюренном 27 июля 1675 ?
[1] Le opere di Raimondo Montecuccoli editi dall'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Vol. I, 2000.
[2] Cр. П. Пьери: «Принцип боя на крыльях таков: выставлять свое сильное (крыло) против слабого (крыла) противника и сдерживать своим слабым сильное (крыло) противника» (Pieri. GUERRA E POLITICA…)
@темы: Монтекукколи, Лураги, Юбилейная запись - 10 лет
Raimondo Montecuccoli
«Меня мнят величиной в вопросах войны…»
Тюренн
«DUE MAGGIORI CAPITANI DEL SECOLO»
Помимо Великого Конде, у Анри «Le bon gentilhomme» Тюренна имелся еще один соперник, с которым маршал был обречен на вечное сравнение – Раймондо „Il destillato" Монтекукколи. Оба – лучшие полководцы своих великих государств, «раскрутившиеся» на Тридцатилетке и одолевшие всех попавшихся под руку соперников, а под конец жизни схлестнувшиеся, образно говоря, в бою за звание абсолютного чемпиона. Надо ли удивляться, что в литературе их имена частенько всплывали в тесной связке.
Так, итальянский историк П. Пьери, изучая творчество своего выдающегося соотечественника, писал:
«Il nome di Raimondo Montecuccoli sembra sintetizzare, accanto a quel1о del grande Turenne, l arte militare délla seconda metà del secolo XVII, l’ultima fase cioè di quella profonda trasformazione dell’arte délla guerra». Одно из самых знаменитых – и лестных – сравнений дал Вольтер: оба, подчеркивал он, превратили войну в искусство. Потому что, добавим от себя, они выбрали это искусство своей профессией.
читать дальше

Противостояние, в котором "должен остаться только один": портреты Раймондо и Тюренна на фоне отхода фр. войск за Рейн и преследования их имперцами 1 и 2 августа 1675.
Но прежде чем перейти к сравнению, пару слов о его критериях и параметрах – здесь много спорных моментов. К примеру, корректно ли выносить вердикт просто по большему числу выигранных битв или войн? Говорит ли победа в очной схватке о безоговорочном превосходстве одного нашего героя над другим? А каким аршином измерить ратные талант и мастерство? В этом пробном очерке, в формате «максимально субъективно, по возможности, внятно и коротко» © мы попытаемся сравнить Тюренна и Монтекукколи не столько как военачальников [1], сколько – в более широком диапазоне – как профессионалов военного дела, военспецов широкого профиля. Отсюда – соответствующие категории, учитывающие военные достижения этих людей и на поле брани, и за его пределами.
РАУНД 1. «Non è stato forse Montecuccoli a lanciare per primo l'idea di una accademia militare?»: ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Не совсем обязательный для 17 века параметр, поскольку лучшей военной школой по-прежнему оставалась собственно война. Да и академии, о которых пойдет речь, были, мягко говоря, совсем не тем, чем стали в следующих столетиях. Но коль скоро мы говорим о профессионалах войны, не будет лишним затронуть этот параметр.
Тюренн: Академия + Голландия
Достижение Тюренном возраста 15 лет было сочтено его матерью достаточным возрастом для обучения в «военной» академии. Хотя в самом Седане к тому моменту уже лет 20 функционировала «Académie des exercices», основанная, кстати, отцом Тюренна, это не был достойный уровень для юных отпрысков герцога Буйонского. Надо было что-то серьезнее и престижнее. Вполне логично Елизавета Нассау решила искать это что-то «во французской стороне, на чужой планете» – в Париже. Наверное, самой распиаренной тогда оставалась академия, основанная Плюневилем еще при Генрихе 4. Здесь занимались дети «элиты элит», среди которых - в свое время - окажется и будущий начальник/противник Тюренна Великий Конде. Но Елизавета отправила своего меньшОго туда, где уже ранее учился и старшОй – в академию Бэнжамэна. Заведение это «jouissait d'une réputation internationale» - там, наряду с отпрысками французских благородных семейств, учились и иностранцы. «On ne se tromperait pas en prétendant qu'au xvne siècle bon nombre d'officiers illustres étaient anciens élèves de cet établissement» (SCHULTEN. — Le séjour de Turenne aux Pays-Bas : années de formation). Тюренн совершенствовался в верховой езде, фехтовании, танце и, куда ж без нее, математике (Беранже Ж. Турень). Правда, не доучился, ибо обучение в академии Веньямина оказалось, таки да, дорогим. Через год мать решила отправить Тюренна к родственникам в Голландию. Здесь Тюренн учил (местный) язык, осадное дело и, куда ж без нее-2, математику, и здесь же в 1629 г. состоится его боевое крещение.
А вот что читал Тюренн по военной истории, кроме «обязательной программы» в лице античных классиков (среди них Цезарь и Курций Руф), требует отдельного исследования.
Монтекукколи: пика + Макиавелли
Для советских полководцев, не получивших нормального военного образования и самостоятельно изучавших военную теорию, в нашей литературе предложили формулу «шашка плюс Клаузевиц» [2]. В случае РМ это были пика+Макиавелли.
РМ, в отличие от Тюренна, военных «академиев не проходил» и тем более не закончил (хотя появление и цветение подобных академий относят как раз к Италии). Его хотели отдать сначала в Collegio в Болонье, но в итоге ему пришлось учиться то ли в Ферраре, то ли еще где (Шрайбер Г. Раймондо Монтекукколи. Воевода, писатель и кавалер). Он начал службу пикинером (привязанность к пике, кстати, отразится в его военно-теоретических трудах) и шаг за шагом прошел все ключевые ступени на пути к чину полковника. И опыт его не ограничился только маршами и мелкими стычками: ему довелось участвовать в эпичных сражениях при Брайтенфельде-31, Нердлингене-34, Виттштоке-1636 (и, возможно, Лютцене-32, но здесь мнения историков расходятся). Тюренн же в начальный период карьеры в столь крупных мясорубках не участвовал; как заметил еще П.Пьери, «ему недоставало опыта Брайтенфельда» (Пьери П. РМ и его творчество).
По части самообразования РМ продвинулся, как кажется, намного дальше Тюренна: в его первых трактатах Баркер (Ратный думец и сеча: РМ Тридцатилетней сваре. 1974) распознал ссылки или намеки на произведения полусотни авторов, из которых треть – античные, включая непременных Цезаря, Руфа, Геродота, Фронтина, и несколько современных, включая Басту, де Ла Ну и т.д. Но особенно большое влияние на него оказали труды знаменитого флорентийца.
Наш итог первого раунда: 1 балл уходит Тюренну, полбалла - РМ.
РАУНД 2. ВОЕННАЯ КАРЬЕРА:
«Se avessi voluto lasciar fare il mio avanzamento solamente dal corso degli anni, non saria stato di bisogno che io mi fossi faticato con una curiositá particolare»
Теперь сравним то, как быстро наши герои взбирались по крутой лесенке военной иерархии и до каких высот в итоге добрались. Сразу оговоримся, что и здесь, и в сводной таблице мы будем рассматривать только основное место службы наших героев – тогда как Тюренн и РМ еще отвлекались на службу Голландии и Модене соответственно и тоже получали там чины. На правах дополнительного бонуса выявим того, чей послужной список окажется внушительнее.
СТАРТОВАЯ ЧЕРТА: поул-позишн и гонка с гандикапом
Старт гонки к высоким чинам начался у наших героев с разных позиций. Как нетрудно догадаться, степень знатности и финансовые возможности были тому причиной. Тюренну посчастливилось быть сыном, пусть и не первым, Анри де ля Тур д Овернь, маршала и одного из признанных лидеров протестантского движения. Помимо титула герцога Буйонского, он именовал себя принцем Седанским, т.е. с претензией на самостийную principauté - «княжество», как говорят в отечественной литературе. Правда, при Людовике 14 титул принца будет официально признан узурпированным и нелегитимным, но это все потом, а тогда, в начале 17 века, к отцу Тюренна вопросов не было.
Владения родителей Тюренна были раскиданы по просторам королевства. Тогдашний Седан – крупный культурный и религиозный центр, имеющий даже собственную оружейную мануфактуру. Да что там мануфактуру – Седан, как и другой домен, виконтство де Тюренн, чеканил собственную монету. Неудивительно, что Тюренн мог позволить себе не только полк во Франции, но и параллельно роту в Голландии (он там мог бы и полк содержать, да только ему не дали - см. Тюренн в отечественной историографии ). В первый раз Тюренн набрал полк в возрасте 14 лет, но по-настоящему его полковничья, т.е. мэтр-де-канова служба началась с 19 лет (см. Mestre de camp, или Слово о полку Тюреннове. ). Таким образом, Тюренн начинал свою гонку с «поул-позиции».
Раймондо же, по сравнению с Тюренном, был всего лишь графским сыном. Графы Монтекукколи даже в период наивысшего расцвета владели несколькими деревнями и «горными гнездами», а их влияние не выходило за рамки Моденского герцогства. Отец Раймондо воевал против турок, но высоких чинов не достиг; самое большее, чем он командовал – три роты. Под конец жизни он управлял скромным городком и умер, когда РМ еще не достиг отрочества. Кардинал д'Эсте, взявший тогда мальчика под свое покровительство, и вовсе готовил его к церковной стезе. На что в такой ситуации мог рассчитывать РМ при поступлении на военную службу? Если его дальние родственники, Эрнесто и Андреа, начинал службу с капитана, то РМ мог самое большее, как полагает Шрайбер, стартовать со знаменосца-фенриха. Но судьба распорядилась иначе: он начал вообще с самого низа, простым пикинером. Целых девять лет жизни ему понадобилось «убить», чтобы отыграть гандикап и достичь планки, которую Тюренн взял уже в 19 лет в силу могущества и положения своей семьи. Причем полковничья планка, как считал Муньяй, должна была стать для РМ потолком: «Given the traditions and standards of the time, as well as his social background, he was destined to be an officer who would probably have reached the rank of colonel» [Имперская рать 1657-1687]. Спорное утверждение, ибо вышепомянутый Эрнесто смог дослужиться до генерала.
СКОРОСТЬ
Здесь безоговорочно лидирует Тюренн: маршальский жезл он держал уже через 13 лет после того, как получил патент лагерного мэтра, отвлекаясь при этом на Голландию (см. таблицу). У РМ путь от обриста (в 26 лет) до фельдмаршала занял, с периодическим отвлечением на Италию, 23 года [3].
Наиболее быстрым у РМ был взлет от генералфельдвахмейстра до генерала кавалерии – 6 лет. Якобы негативная реакция президента гофкригсрата на назначение молодого РМ в 1644 фельдмаршал-лейтенантом показывает, что итальянец уже тогда опережал устоявшийся график продвижения. Однако Тюренн за тот же отрезок совершил аналогичный рывок: от лагерного маршала до генерал-лейтенанта [4]. Карьеру РМ в период Тридцатилетней войны здорово притормозил такой «форс-мажор», как неоднократное попадание в плен, а также командировка на войну Кастро. А затем наступил длительный мирный период: если в 1648 РМ успел получить чин генерала кавалерии аккурат до того, как воцарился мир, то следующее повышение – до фельдмаршала - пришло только с новой войной (против Швеции), для чего понадобилось ждать почти 10 лет. Наоборот, стремительному росту в чинах Тюренна способствовало непрекращающееся участие в кампаниях с 1629 (правда, включая сюда и службу в Голландии). По сути, у Тюренна за стартовые 30 лет (1629-1658) офицерско-генеральской работы набралось только 2 «прогула» кампаний. Что наша жизнь? – Война.
ТАБЛИЦА: Анри «Le bon gentilhomme» Тюренн vs Раймондо „Il destillato" Монтекукколи

ДУЭЛЬ ПОСЛУЖНЫХ СПИСКОВ
Ч.Кампори, биограф РМ, насчитал у оного 41 кампанию, и, к сожалению, это число было некритично подхвачено итальянской историографией. На самом деле это лукавая статистика, поскольку Кампори придумал подсчет кампаний на разных театрах в рамках одного календарного года. Например, для 1635 он насчитывает сразу 3 кампании - на Рейне, в Баварии и у Магдебурга, - и т.д. Таким хитрым макаром итальянец накрутил своему великому соотечественнику больше походов, чем следовало бы [5].
У Тюренна, в таком случае, тоже можно было бы разделить некоторые кампании на несколько штук, например, с весны 1674 до января 1675 при сильном желании выделяются 3 или даже 4. Но не лучше ли все же придерживаться традиционного определения? Во времена Тюренна и РМ выход с зимних квартир рассматривался как «официальное» начало кампании и уход туда же как не менее «официальный» конец. Все это обычно умещалось в рамках одного календарного года. При таком подсчете у РМ становится на десять кампаний меньше, что выводит вперед маршала с его 33 или даже 34.
Отметим и отставание РМ по количеству походов в качестве самостоятельного командующего армией – неудивительно, если учесть, что Тюренн получил маршальский жезл в 32 года, а РМ стал фельдмаршалом только в 49 лет. Стоит учитывать и то, что кампания кампании рознь: РМ, например, в 1659 предпринял целую серию осад и десантов, а кампания 1662 свелась фактически к движению из Верхней Венгрии в Нижнюю на квартиры.
В номинации самого частого «баталиста» – существенный перевес Тюренна. Даже с учетом расплывчатости определения «крупная битва», Тюренн главнокомандовал как минимум в 12 таких событиях (см. продолжающийся цикл «Битвы Тюренна с разных колоколен»). А назовёт ли читатель сходу крупное сражение под руководством РМ, окромя знаменитого Могерсдорфа-1664? То-то и оно. Впрочем, битвы РМ давал пусть и редко, да метко и поражений в «регулярных» баталиях не знал. У Тюренна же – 2-3 поражения, в т.ч. одно «нокаутом» – при Ретеле.
Можно ли утверждать, что у кого-то были более слабые противники или более простые условия? Вряд ли. Тюренн не дрался против турок, зато РМ не испытывал удара исп. терций. У Тюренна не было десантных операций на острова в студеную зимнюю пору, а у РМ – аналога ночной атаки при Аррасе. Тюренн имел против себя Мерси, Плесси, Конде, а Раймондо… тоже не абы кого, да хотя бы того же Конде (только до битвы дело не дошло).
ДОСТИГНУТЫЕ ВЫСОТЫ
Считается, что и Тюренн, и РМ достигли практически одинаковых высот: первый стал главным маршалом Франции, второй – императорским генерал-лейтенантом. На самом деле это верно лишь в отношении итальянца: помпезный титул «Maréchal général des camps et armées du Roi», как мы выяснили (см. Главный маршал лагерей... ), не давал никакой реальной власти над маршалами и не являлся частью сложившейся на тот момент военной иерархии. Высшим чином он являлся лишь в представлении современников, в первую очередь – самого Тюренна, что и привело к становлению мифа о «генералиссимусе». Мечта Тюренна оказалась пшиком.
Настоящим же эквивалентом императорского генерал-лейтенанта выступал старый добрый коннетабль [6]. Потому что этот ранг мог занимать только один человек. Потому что ему безоговорочно подчинялись маршалы, что повелось еще с раннефеодальных времен, когда оба являлись придворными должностями. К сожалению для Тюренна, институт коннетабля с 1627 приказал долго жить: со смертью Ледигьера решено было не вручать меч более никому. Слухи о том, что Тюренн мог рассчитывать на такую милость от Людовика 14 в случае перехода в католичество, смешны и беспочвенны: в тренде был абсолютизм.
В отличие от фантомного «главного маршалата», генерал-лейтенантство РМ было вовсе не иллюзорным. Если среди историков и есть споры о нем, то только о форме (было ли это чином или только должностью [7]), но не о содержании: верховенство генерал-лейтенанта не оспаривалось фельдмаршалами, а потому можно спокойно утверждать, что РМ достиг в карьере гораздо более серьезной вершины.
Итог: по совокупности в раунде побеждает РМ с 1 баллом, но у Тюренна – 0,5.
РАУНД 3. «Il a été le véritable ministre de la guerre»: ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ВС СВОЕЙ СТРАНЫ
В перерывах между войнами оба наших героя не сидели сложа руки и так или иначе участвовали, как говорят сегодня, «в военном строительстве и укреплении оборонного потенциала» своих государств. Можно ли их было считать условными «министрами обороны» и что конкретно они сделали для армии?
РМ еще во время Тридцатилетней войны успел стать одним из немногих членов Придворного военного совета, а с 1668 до конца дней своих и вовсе был президентом. Гофкригсрат во многих аспектах стал предшественником министерства обороны, так что можно представить себе объем полномочий РМ. Он занимался и чисто организационными вопросами, и обеспечивал связь с войсками, и делал доклады и предложения императору; и осуществлял кадровый контроль + повышения в чинах; и выдавал лицензии; и решал вопросы, касающиеся мостов, водных путей, портов. И т.д. и т.п. Правда и то, что многие решения военсовета саботировались личным врагом РМ, президентствовавшим в Придворной палате; РМ в ответ катал доносы императору в духе «эту страну погубит коррупция».
РМ занимал еще один важный пост, связанный с контролем над артиллерией. Он лично находился при тестировании орудий. Как губернатор Дьера он может рассматриваться как командующий приграничным «военным округом».
Что же конкретно внес РМ в развитие армии Габсбургов и обороне их владений? В 1880 майор австро-венгерского генштаба Г. Банкалари сокрушался, что роль РМ в этом плане еще не была достаточно оценена и соответствующие архивные документы не изучены. Прошло почти 100 лет, и американский историк Баркер в своей книге про РМ сожалел о том же самом. Видимо, через 60 лет, в 2080-х, следует ожидать очередной книги про РМ с новыми сожалениями.
Сделаем краткий и неполный перечень:
- РМ - один из тех, кто стоял у истоков постоянной армии. «Seine Idee des stehenden Heeres hat sich allmälig Bahn gebrochen, aber bis tief in's 18. Jahrhundert pflegte man noch Regi menter aus Geldnoth aufzulösen und in Kriegsnoth wieder zu errichten». Он приходил в гнев, когда узнавал, что император распускал очередные полки.
- Банкалари также писал, что РМ «ДОЛЖЕН был упростить систему обучения» войск, т.е. нет уверенности, что это было сделано.
- Словом и делом оказал влияние на генералов – своих младших современников.
- улучшение пики (в чем?) и замена кирасы
- Ружье с комбинированным фитильно-кремневым замком (правда, не получило распространения на всю армию), + специальные мушкеты для гарнизонной пехоты.
- «упростил» артиллерию. «Die Vereinfachung der Artillerie hat er angestrebt». + «He …introduced … mobile … artillery»
- «Seine fortificatorischen Ideen wurden bei einem Theile der Prager Umfassung angewendet»
- «In late 1663, acting on Montecuccoli’s recommendations, the ProviantAmt … was fully overhauled to better coordinate supply operations in Hungary» (Муньяй. Имперская рать 1657-1687)
- Ввел новое соотношение пики и мушкета (когда?)
- «an attempt to streamline the autonomous Court War Council in Graz (Inner Austria), and alterations in the structure of the military frontier with Ottoman Turkey». Попытка не пытка, но по факту Придворный военный совет в Граце был упразднен только в 1705, ликвидировав тем самым пагубный дуализм в вопросах обороны.
Чем ответит Тюренн?
Приблизительным аналогом президента гофкригсрата во Франции (но не во всех аспектах, разумеется) выступал le secrétaire d’État de la Guerre, которым долгое время был Ле Теллье, затем его сын Лувуа. Тюренн неплохо ладил с первым (и слаженная работа их тандема во многом способствовала французским победам), но вдрызг рассорился со вторым. Стало быть, такой концентрации полномочий как у РМ, Тюренн фактически не имел. Еще в начале 1650-х он получил титул ministre d’État, однако не стоит считать его министром в современном смысле этого слова – маршал имел право участвовать в Conseil d’En-Haut, куда входило весьма ограниченное число персон. Правда, после «революции 1661» в это число он больше не входил. Зато Людовик 14 звал его в более многочисленный совет по сугубо военным вопросам, куда приглашались еще и Ле Теллье, Вилльруа, а также два заклятых соперника Тюренна. В 1660-е, в период расцвета своего влияния, маршалу выпадала честь быть запрошенным в качестве военного эксперта аж до 2 раз в неделю. Король часто прислушивался к его советам – не только по проблемам армии и обороны в целом, но и внешней политики. Апогеем влияния Тюренна считается Деволюционная война. Именно в период ее подготовки и ведения он стал «настоящим военным министром», как позднее скажет один французский историк. Далее последовал спад, усиление роли недруга – Лувуа и старого соперника – Конде.
Не обладая полномочиями «министра обороны», Тюренн, казалось, мог отвести душу в командовании любимым родом войск – в середине 1650-х он был назначен главным полковником легкой кавалерии (это была именно должность, а не чин, и подробнее о ней мы поговорим в цикле о званиях и должностях маршала). В теории Тюренн имел широкие прерогативы, так что Сен-Симон даже называл его «хозяином» кавалерии; например, право производить назначения по своему усмотрению. Поначалу так и было, но с конца 1660-х король и Лувуа успешно оспорили у него эту привилегию. Также Тюренн приложил руку к разработке ряда ордонансов для кавалерии, способствовавших укреплению дисциплины или шлифующих складывающуюся иерархию от шероховатостей.
Что касается учреждения бригадиров в кавалерии, «il se peut que l’on ait exagéré le rôle de Turenne en cette occasion», как писал Пикавэ (Послѣдніе лѣта Тюренна (1660-1675). Парижъ, 1914). Но факт в том, что идею создания промежуточного звена между полковником и лагерным маршалом Тюренн действительно высказывал еще середине 1640-х. А в 1662 он определил в специальном регламенте принцип старшинства среди бригадиров и лагерных мэтров [Пикавэ].
Исходя из вышеизложенного, РМ и в этом раунде получает полноценный 1 балл, а Тюренн – 0,5.
РАУНД 4. ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ МЫСЛИ:
«Turenna finalmente cessó di giovare alla patria, dacché ei cessó di vivere; e Montecuccoli, perpetuando nelle auree sue Memorie la dottrina ch’ei praticó con tanta lode ed utilitá, poté freddo e taciturno dalla tomba ancor vincere e preparare all Austríaco Imperio la sua futura grandezza»
„Elogio del principe Eaimondo Montecuccoli"
Другая ипостась профессионала войны может обнаружиться в военно-теоретическом наследии и влиянии его на умы современников и потомков.
Как военный теоретик РМ написал настолько много произведений, что весь их комплекс не издан до сих пор. Среди главных книг мы выделим, разумеется, «DELLA GUERRA COL TURCO IN UNGHERIA 1660-1664» (=Афоризмы), «Трактат о войне», два трактата о сечах, «Таволи милитари» и т.д. Помимо этих работ (и не касаясь многочисленных художественных и политических), РМ оставил отдельные заметки о собственных кампаниях и путешествиях, что также представляет интерес. Наибольший успех снискали «Афоризмы» - так сказать, учебное пособие для борьбы с турками с нуля, включающее также собственные мемуары РМ о войне 1661-64. Они были переведены на многие языки и переизданы многократно, оказали влияние на полководцев и теоретиков, по крайней мере, века 18-го. Читал их и Александр Васильевич Суворов, но против турок они ему мало чем пригодились: «Монтекуккули очень древен и много отмены соображать с нынешними правилами Турецкой войны». Да, в сугубо прикладном смысле многие наставления РМ уже не отвечали реалиям войны 18 века. Например, на протяжении всего своего творчества РМ упорно держался за пику, хотя от «королевы баталий» всего через 15-25 лет после его смерти откажутся во многих продвинутых и даже задвинутых европейских армиях. Однако, в таких аспектах как военная психология РМ не теряет интереса, свидетельством чему работа Баркера (см. Записки против Афоризмов. О русском переводе Монтекукколи).
Но когда восхваляющие итальянца историки утверждают, как это сделал процитированный выше автор „Elogio del principe Рaimondo Montecuccoli", что Тюренн не оставил после себя военно-теоретических работ, они ошибаются. Помимо собственно мемуаров о своих кампаниях, Тюренну приписывают небольшие «Mémoires sur la guerre» - несколько сумбурный сборник советов для генералов о том, как вести войну. При этом половина труда отдана крепостям и проблемам осадной войны в целом (см. «FAIRE PEU DE SIÈGES…» Тюренн в роли Вобана), и ни один из тезисов не подкреплен ссылкой на какие-либо событие или полководца. Итальянский историк Пьери в прошлом веке сравнил тюренновы «Записки» с работами РМ. Он нашел в них настолько много общего, что даже поспешил отмести приходящую на ум мысль о заимствовании моденцем идей у седанца («il pensiero del guerriero modenese ha tutt'altra genesi!»). Но РМ не мог знать про труд Тюренна: «Mémoires sur la guerre» были опубликованы только в 1730-е за компанию с собственно «Мемуарами». В отличие от работ РМ, тюренновы «Записки» не получили признания среди военных и были преданы забвению настолько, что даже не каждый порядочный биограф Тюренна слыхивал про них (не говоря уже о непорядочных…). Да и сами «Mémoires sur la guerre», мягко говоря, не блещут откровениями, не лишены банальностей, хотя в чем-то, безусловно, интересны (например, разделение автором понятий «операция», «маневр», «движение»).
В целом же на данном фронте РМ, конечно, имеет разгромный перевес над Тюренном. Победа в раунде однозначно за ним.
РАУНДЫ 5-7. «Профессионалам, отчаянным малым, игра — лотерея, — кому повезет»:
ОБЗОР ОЧНЫХ ВСТРЕЧ
Очные встречи наших героев сводятся к одному состоявшемуся арьергардному бою, и к одному несостоявшемуся, хотя вроде бы намечавшемуся в июле 1675 г. серьезному поединку. Между этими событиями был поход 1673, сценарий которого также не предполагал масштабного рубилова. Настоящая битва, которая должна была расставить все умлауты с аксанами и определить лучшего, не случилась. Судьба, словно опытный драматург, оставила концовку дуэли открытой…
Тем не менее, действия обоих господ в этих двух с половиной кампаниях все же дают некоторую удобоваримую пищу для размышлений.
1648 – ЗНАКОМСТВО: «Der Kampf war sehr hartnäckig und schwierig»…
Цусмарсхаузен был разобран в цикле про тюренновы побоища «…ET DONNER BEAUCOUP DE COMBATS». Это было арьергардное столкновение, в котором Тюренн и Врангель в течение нескольких часов догоняли императорско-баварскую армию, а РМ во главе скромного отряда пытался их последовательно задержать на 3 рубежах. Формально франко-шведы одержали победу, но, с другой стороны, и перед РМ не стояло каких-то более глобальных задач, чем сдерживание наседавшего врага. Так что дадим балл Тюренну за силу действия и полбалла РМ – за противодействие.
1673 - DUE VALENTI SCHERMITORI
В 1672 Тюренн уже имел дело против союзной армии под главнокомандованием курфюрста Фридриха Вильгельма I; РМ в ней командовал скудным императорским контингентом. Полноценная дуэль состоялась в 1673, когда РМ действовал самостоятельно. В этой партии РМ взял своеобразный моральный реванш за 1648-й год: он перехитрил и переманеврировал лучшего маршала Франции.
Кампания по традиции свелась к алле-ретур вдоль и поперек Рейна. В начале епископ Вюрцбурга пропустил войска РМ и те перешли Майн. Теперь они угрожали ашаффенбургскому мосту, обеспечивавшему коммуникацию французской армии с нижним Рейном. Тюренн частью армии занял Ашаффенбург. РМ перешёл Рейн и двинулся к Кобленцу. Преследованию имперцев Тюренну помешало отсутствие продовольствия и фуража. В Филипсбурге Лувуа, вопреки своему обещанию, не приготовил складов. РМ же соединился с Вильгельмом III Оранским; союзники осадили и благополучно взяли столицу будущей ФРГ, а Тюренн не в силах этому помешать.
1 балл заслуженно уходит РМ
«ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ ТОЛЬКО ОДИН»: прерванная партия 1675
Кампанию 1674 РМ пропустил «по медицинским показаниям», зато неплохо подготовился к следующему старту. Да только Тюренн в этот раз оказался в еще лучшей форме…
Армия РМ собралась в мае 1675 года на правом берегу Рейна: 26 000 – 27 000 человек (14 000 пехоты и 12 000 кавале-рии). У Тюренна имелось 32 000 человек (22 000 пехоты и 10 000 кавалерии). РМ пытался использовать Страсбург для переправы через Рейн, но Тюренн успел занять позицию перед Страсбургом и пригрозил бомбардировкой в том случае, если город впустит имперцев. Австрийский командующий, у которого к 21 маю было 22 000 человек, пошёл на хитрость, оставив около города отряд, который должен был занять Страсбург, как только уйдёт Тюренн, а сам осадил Филипсбург, перешёл Рейн в Шпейере и создал угрозу Цаберну, Ландау и Гегенау. В ответ на это Тюренн навёл в 40 км выше Страсбурга мост, перешёл Рейн, вышел к Вильштадту, прогнал от Страсбурга австрийский отряд и послал кавалерию к Оффенбургу, где располагалась тыловая база имперцев и которую прикрывал отряд в 5 000 австрийцев.
Этот манёвр Тюренна заставил РМ бросить осаду Филипсбурга, вернуть отряды из Эльзаса и поспешить к Оффенбургу. Имперцы выступили 13 июля, но Тюренн прикрыл мосты через реку. Тогда РМ направился к Моору. Спасти магазины ему удалось лишь частично, большую часть их сожгли французы. Тюренн, в свою очередь, сосредоточил свои силы у Альтенгейма.
Оказавшись в таком положении, РМ якобы хотел дать своим врагам бой, но не сумел преодолеть их позиций, отошёл сначала к Урлоферну (на что французы ответили подходом к Бодерсвейеру), затем к Шерцену на Рейне. Тюренн последовал за ним и встал у Фрейштета, ниже противника. На берегах и островах Рейна он устроил батареи, которые простреливали всю ширину реки. Таким образом, подвоз австрийцам провианта из Страсбурга прекратился. Однако, и кавалерия французов стало испытывать острый недостаток в фураже, французская армия тоже испытывала голод, а среди солдат и офицеров начались заболевания, обусловленные болотистой местностью и дождями. Тюренн решил дать бой. Он оста-вил половину армии при Фрейштете, а с остальной направился в обход левого фланга имперцев к Гамгурсту.
У РМ за счёт подкреплений имелось 30 000 человек против 22 000 человек у Тюренна. Он несколько раз атаковал французов при Фрейштете, но атаки эти были отбиты. Тогда, не желая давать бой в окружении, РМ отступил к Засбаху. Тюренн присоединил к своим силам армию, стоявшую при Фрейштете, и занял Ахерн, расположенный на пути от Засбаха в Вюртемберг. 26 июля Тюренн начал движение от Ахерна к деревне Нижний Засбах. РМ избегал боя и отдал приказ части армии отступать в горы.
В понедельник, 27 июля, когда французы столкнулись с передовыми постами австрийцев, мог бы состояться большой бой. Но в этот же день Тюренн был смертельно ранен, и французы свернули партию.
Намечавшееся сражение при Засбахе во французской историографии оплакивается как гарантированная, но так и не состоявшаяся победа Тюренна. Обычно скромный маршал якобы произнес отдающую несвойственной ему самоуверенностью фразу «Наконец я поймал его!». И только удачный выстрел из пушки спас РМ от неминуемого поражения…
А вот дружественная к императорскому генерал-лейтенанту немецко-итальянская историография не всегда с этим согласна: оказывается, заключительная часть летней дуэли была благоприятна для РМ, и «in un secondo tempo, proprio alia vigilia della morte del Turenne, riesce a schierare l'esercito in una posizione decisamente vantaggiosa». Подробнее об этой кампании мы погорим в отдельном очерке, а пока что констатируем, что в поединке 1675 на момент остановки боя Тюренн определенно выигрывал по нашим – судейским – карточкам. 1 балл ему и 0.5 его сопернику.
ИТОГОВЫЙ СЧЕТ
И что же мы насчитали в итоге? 5,5:4 в пользу Раймондо. Преимущество РМ как профессионала войны предсказуемо обеспечено более высокими чинами-должностями и огромным военно-теоретическим наследием. Впрочем, и Тюренн не проиграл «разгромно» - поскольку ему было что противопоставить во многих номинациях, включая даже военную теорию.
И в заключение – слово победителю:
«Es ist mir ... der Gedanke ein Trost, dass nieine Tätigkeit das Licht der Sonne nicht zu scheuen braucht, denn ich habe während der 70 Jahre meines Lebens 55 Jahre treu und angestrengt gedient. Ich habe meine ganze Kraft und mein ganzes Können dem Dienste des Kaisers gewidmet, ohne jedes Sonderinteresse, nur mit der Absicht, mir einen ehrlichen guten Namen zu machen und die kaiserliche Gnade zu verdienen».
[1] Об этом см. статью R. FOERSTER. Turenne et Montecuccoli. Une comparaison stratégique et tactique из сборника «Тюренн и ратное искусство». Статья толковая, но можно было копнуть и поглубже. Есть также статья Ж.Беранже «Биография стратегов-государственных деятелей: Тюренн и Монтекукколи, сравнение» из сборника «Народы и их армии». Наконец, тот же Беранже рассматривал гос. заслуги РМ в статье «Montecuccoli homme d’État».
[2] Ю.В. Рубцов. «Советский Багратион»
[3] Австрийские авторы многотомника «Походы Эжэна Савойского» сопоставили некоторые чины своей армии той эпохи с французской. Аналог лагерного маршала совершенно справедливо нашелся в генералфельдвахмейстре, а фельдмаршала уподобили маршалу, что в принципе допустимо, хотя во Франции, сделаем необходимую оговорку, маршалат был в первую очередь dignité, а никак не чисто военным званием.
А вот других историков при сопоставлении чинов в армиях разных государств порой некстати захватывает страсть к этимологии. Отсюда французский марешаль де кан объявляется эквивалентом фельдмаршала или фельдмаршал-лейтенанта – ведь якобы и тут, и там «полевые» маршалы, и, соответственно, в Maréchal général des camps et armées du Roi не мудрствуя лукаво распознается генерал-фельдмаршал. На самом же деле марешаль де кан – маршал «лагерный», а не «полевой», а "главный маршал лагерей и армий" – вообще пустая должность.
Аналог французского генерал-лейтенанта соблазнительно видеть в фельдмаршал-лейтенанте, но на пути к фельдмаршалу была еще одна генеральская высота в виде двух равнозначных званий, в случае с РМ – генерал (от) кавалерии. Так что в таблице чины эти парой противопоставлены французскому.
[4] Письмо РМ в 1644, где он перечисляет молодых полководцев, включая Тюренна, говорит о его слежении за карьерными успехами современных ему воевод не просто с интересом, но и, возможно, с некоторой завистью.
[5] К тому же Кампори не проявлял дотошность в передаче званий РМ на итальянский язык, что привело к распространению некоторых курьезов в историографии. Так, он указал, что в начале войны с турками император сделал РМ «maresciallo di campo generale». Томассини и Лураги это поняли как возведение в 1661 г. РМ в звание «Feldmaresciallo generale». Но РМ уже был с 1658 «просто» фельдмаршалом (без «генерал-»). Надо ли полагать, что Лураги имел в виду более редкий чин «Reichs-Generalfeldmarschall»? Однако РМ к числу таковых не относился. Очевидно, Кампори ошибочно перенес получение фельдмаршальского чина на 3 года позже.
[6] Опричь этого зама императора («Luogo Tenente Generale» въ передачѣ Раймунда), наличествовалъ еще «генералиссимусъ», котораго онъ ставилъ выше генералъ-лейтенанта и въ качествѣ примѣра приводилъ Валленштайна. А историкъ Э. Бусси (Атти ди конвеньо 1964), игнорируя всякихъ генералиссимусовъ, утверждалъ, что выше императорскаго генералъ-лейтенанта нужно непременно поставить двухъ имперскихъ генералъ-фельдмаршаловъ (разныхъ вѣроисповѣданій), ибо эти послѣдніе – высшій чинъ въ Имперіи, а первый – токмо при австрійскомъ дворѣ. Человѣкъ со званіемъ Reichs-Feldmarschall, кстати, имѣлся въ войскѣ Раймунда (в ту пору еще даже не генералъ-лейтенанта, а «простого» фельдмаршала) в сечи на рѣкѣ Раабъ 1664 – маркграфъ Леопольдъ Вильгельмъ Баденъ-Баденскій.
Американскій историкъ Баркеръ, ничтоже сумняшеся, сопоставилъ имперскую іерархію съ современной ему американской, причемъ нашлось мѣсто и генералиссимусу, и генералъ-лейтенанту. Перваго онъ уподоблялъ американскому General of the Armies, а втораго – пятизвѣздочному, какъ армянскій коньякъ, General of the Army. Слѣдовательно, по мнѣнію Баркера, Раймундъ не дошелъ до уровня Першинга, хотя и сравнялся съ Айкомъ. Похоже, да не то же: генералъ-лейтенантъ всегда былъ только одинъ, а пятизвѣздочныхъ генераловъ – сразу пятеро.
@темы: Тюренн, Монтекукколи
Mestre de camp, или Слово о полку Тюреннове.
Маршал в миниатюре, или Первая генеральская высота
В 1660, после триумфального окончания войны с Испанией, Тюренн наконец получил столь вожделенную почесть – он стал maréchal général des camps et armées. На русский этот диковинный титул переводят то как «главный (или даже «Великий») маршал Франции», то «маршал-генерал лагерей и армий короля» (Р.В. Новоселов). В последнем научном издании мемуаров Сен-Симона составитель глоссария Л.А. Сифурова внушает читателям:
«Главный маршал французской армии (букв.: главный (или генеральный) маршал лагерей и армий Франции) (maréchal général des camps et armées de France) —звание, равнозначное званию генералиссимуса; давало право командовать маршалами Франции». Так думал и сам Тюренн, но в реальности все вышло совсем иначе.
читать дальшеВо французской историографии миф о главном маршале как генералиссимусе был опровергнут уже давно; одними из последних исследований о его происхождении и развитии являются работы Эль Ажа [Исторія маршаловъ Франціи, с. 325-336 и L’ambition d’un honneur et son dépassement : Turenne et l’office de Maréchal de France // Новые взгляды на Тюренна. 2011]
Чтобы понять, почему «главный маршал лагерей» не мог командовать маршалами, нужно обратиться к истории этой «dignité» (достоинства). Кто еще его удостоился и когда? Французская википедия приводит «великолепную семерку»: Шарль Арман де Гонто герцог де Бирон и герцог де Ледигьер – до Тюренна, плюс Виллар, Мориц Саксонский, Брольи и Сульт – после. Даже есть ссылка – на издание «Dictionnaire des Marechaux De France du Moyen Age à nos jours», правда, без указания конкретных страниц. Оно и неудивительно – ведь в биографии герцога Бирона в этом словаре нигде не сказано, что он был главным маршалом (см. р. 90-91), а вот в статье про Ледигьера – да, указано (р. 269). Во введении же к этому словарю специального разбора титула «Главный маршал» нет, отмечается лишь, что «le contenu de cette dignité éphémère est mal défini. Il ne s’agit guère que d’une manifestation occasionnelle de la reconnaissance royale pour le premier et d’une concession purement formelle à la soif d’honneurs du second» (р. 20). Стало быть, французские википедисты руководствовались какими-то другими трудами.
Традиция начинать список с герцога Бирона довольно давняя, например, так поступал Габриэль Даниэль в «Histoire de la milice françoise…» (1721) или Г.-А. де Бокля в своем «Dictionnaire universel, historique, chronologique, géographique, et de jurisprudence civile, criminelle et de police, des maréchaussées de France» (1750). В тоже время у Пинара во втором томе его «Chronologie historique militaire» (1760) список полнее: всем семерым предшествуют Луи де Бираг, Арман де Гонто барон де Бирон (отец вышеупомянутого герцога), де Пюигайяр, де Ленонкур, барон де Терм, маркиз де Ла Валетт.
Соответственно, появление чина датируется не «между 1594 и 1602» (французская википедия почему-то не в курсе, что младший де Бирон получил его в 1592 г.), а в 15:8 г. Главный лагерный маршалат, стало быть, прошел долгую эволюцию, в которой надо выделить два этапа: первый – период «Maréchal de camp général», начатый назначением де Бирага, а второй – собственно maréchal général des camps et armées du Roi, начатый повышением Ледигьера.
Maréchal de camp général обязан происхождением званию уже известного нам лагерного маршала, «maréchal de camp» (см. Маршал в миниатюре, или Первая генеральская высота ). Да, он был главным, только над лагерными маршалами, но никак не над обладателями высокой «la dignité de maréchal de France». Он стоял ниже не токмо маршалов Франции, но и подчиненных им генерал-лейтенантов, что подчеркивается рядом авторов (Ф. М. Сикаръ Исторія ратныхъ установленій французовъ, т. 1), Пинаръ, Военно-историческая хронологія, т. 2). Мало того, такие сравнительно скромные полномочия у первого носителя этого звания, Бирона, были ограничены и пространством («maréchal de camp général delà les monts seulement», под горами понимаются Альпы – Бираг воевал в Пьемонте), и временем (должность просуществовала меньше года, поскольку после мира в Като-Камбрези она была упразднена, см.: Пинар, т. 2).
Свидетели википедии, называющие Шарля Армана де Гонто герцога де Бирона первым главным маршалом, были бы потрясены, узнав подробности его биографии. Ведь если рассматривать это достоинство как высший воинский чин после коннетабля, то ему, по-хорошему, должен предшествовать чин маршала. Бирон же сделал следующую карьеру: лагерный маршал (1590), затем - Maréchal de camp général (1592), наконец, маршал Франции (1594). Еще круче была карьера у его отца, который стал Maréchal de camp général в 1568, а маршалом – только в 1577. НЕ МАРШАЛЬСКИЙ САН СЛУЖИЛ СТУПЕНЬКОЙ К MARÉCHAL DE CAMP GÉNÉRAL, А РОВНО НАОБОРОТ. Вот поэтому-то и следует отделять главных лагерных маршалов от главных маршалов лагерей и армий короля.
Ледигьер был первым, обращает наше внимание Пинар, кто стал называться именно «maréchal général des camps et armées du Roi». Совпадение ли, что он получил этот чин, будучи маршалом Франции? Сам король в своем повелении 1621 г. указывал на то, что должность maréchal général des camps et armées du Roi оставалась долгое время вакантной, тем самым перекидывая мостик и создавая некую преемственность со званием главного лагерного маршала, но главное новшество заключается не только в ином звучании должности (в прерогативу маршала добавились армии), но и в том факте, что никто из семи предшественников Ледигьера на момент получения звания главного лагерного маршала не был собственно маршалом. Король изменил титулатуру, очевидно, поскольку производство маршала Франции в главного лагерного маршала выглядело бы как некое «разжалование». Однако полномочия новоиспеченного главного маршала лагерей и армий копировали главного лагерного маршала. Сравним круг тех лиц, которые были обязаны подчиняться Ледигьеру согласно указу Людовика XIII … с теми, на кого распространялась власть младшего Бирона по указу короля Генриха IV: в обоих случаях не упоминаются маршалы Франции, в указе Генриха говорится лишь о лагерных маршалах и их помощниках. Как видим, добавление «и армий» в название титула не добавило никаких привилегий в сами полномочия.
Полные тексты указов обоих королей, также как и Людовика XIV в отношении Тюренна приведены в работе Пинара (т.2) , который, кажется, одним из первых подметил, что новые почести Тюренна не сообщают ему никакой власти над маршалами Франции.
Должность Тюренна названа в том же указе одной «des plus importantes de celles de la guerre», однако в тексте так и не уточняются надлежащие ей «почести, власть, прерогативы, полномочия, функции и права», которыми пользовались и предшествующие главные маршалы. Ранг, который некоторые считают чуть ли не равным генералиссимусу, на самом деле великодушно дозволяет Тюренну заниматься разве что распределением гарнизонов, квартир, орудий и т.д. в наиболее пригодных - по мнению оного – местах для основания лагерей и расположения армий. Это своеобразное «переработанное и дополненное» издание старого звания главного лагерного маршала. Пикавэ так прокомментировал эти полномочия: «Ainsi le maréchal général commande aux maréchaux de camp : il n’est point dit qu’il doive commander aux maréchaux de France . La question se complique encore si l’on remarque qu’en fait les fonctions du maréchal de camp lui-même étaient très mal délimitées…»
Пинар также обращает внимание на указ короля от 22 апреля 1672 г., который устанавливал следующую вертикаль: в отсутствие короля все должны подчиняться герцогу Орлеанскому (Monsieur), в отсутствие герцога – принцу Конде, в отсутствие принца – Тюренну. Если бы Тюренн по чину был «начальником маршалов», тогда не было бы никакой необходимости в специальном указе ставить его выше всех остальных маршалов. Кроме того, этот указ имел силу только для кампании 1672, не устанавливая подобную иерархию на постоянной основе (Пинар). В пользу того, что главный маршал не имел власти над «простыми» маршалами свидетельствует известный факт возмущения Бельфона, Креки и Юмьера, вызванного как раз указом 1672 г. Все трое пусть и стали маршалами сравнительно недавно (1668), однако сочли унижением повиноваться Тюренну. «Генерал-маршал командовал лагерными маршалами, а не маршалами Франции», - объясняет их мотивацию Беранже. Пинар пояснил еще более популярно: маршалы обиделись на не их подчинение главному лагерному маршалу, который и так не имел над ними власти, а на подчинение равному по рангу, т.е. маршалу Франции. «Quant à la charge de Mareschal général de Camp et Armées du Roy, que l'on prétend être un diminutif de celle de Connestable et devoir commander aux Mareschaux de france, je vous direz Monseigneur que c'est une erreur qui a empoisonnée plus d'un profannes, qui ont ignoré sa veritable fonction… Mais il n'y a rien de plus éloigné de la vérité car cette charge n'a eu d'autre fonction jusqu'à présent que de commander à tous les Maréchaux de Camp indéterminement, dans toutes les armées du Roy et de disposer privativement à tout autre du campement ou logement de l'armée comme fit M. de Lesdéguières conforméments à ses provisions au siège de ST Jean d'Angely», - так писал в 1673 г. историограф Жан дю Буше маршалу Креки.
Специальный указ короля, ставивший всех маршалов ниже Тюренна как раз и понадобился в силу странности титула и непонятности его полномочий. А в результате приключился парадокс, отмеченный К.Руссэ: «сам этот указ и привел к возникновению конфликта, который он должен был предотвратить».
Таким образом, в глазах маршалов новая dignité Тюренна выглядела не как некий аналог генералиссимуса, а как старый добрый чин главного лагерного маршала, безусловно, почетный, но не с вполне понятной компетенцией в реалиях второй половины XVII в. А вот простым обывателям добавление «et armees» и репутация самого Тюренна как абсолютно лучшего полководца королевства могли внушить слишком преувеличенное представление о значимости этого титула – ведь он был подчеркнуто «напыщенным, призванным поразить воображение» (Беранжэ).
Был бы Тюренн коннетаблем, вопросов у маршалов не было бы – примерно в таком духе его старый противник дю Плесси пояснял Людовику 14 истинную суть вещей. Но мог ли Луи дать главенство над всеми войсками Тюренну? Этот высокий ранг сообщил бы ему огромные полномочия, в том числе распоряжение чинами по своему усмотрению во всей армии – а Тюренн, будучи главным полковником кавалерии, имел подобное право только в рамках этого рода войск. Мог ли допустить такое безобразие король, который даже в отведенной Тюренну кавалерии нарушал его прерогативы и сам раздавал назначения?
Сравним теперь власть генерал-маршала Тюренна с дарованной Людовиком XV маршалу Виллару (Pouvoir de maréchal général des camps et armées pour M. le Maréchal Duc de Villars. 18 octobre 1733, подчеркивание наше): «…Nous avons nostredit cousin le mareschal duc de Villars fait, constitué, ordonné et estably, faisons, constituons, ordonnons et establissons, par ces présentes, signées de nostre main, mareschal généradle nos camps et armées, pour, en ladite qualité, avoir dans nos camps et armées le commandement et la prééminence sur nos cousins les mareschaux de France, y exercer les fonctions attachées audit titre…» (Mémoires du maréchal de Villars, publiés, d'après le manuscrit original…). В противовес Тюренну и Ледигьеру, Виллар был первым главным маршалом, кто был официально поставлен над всеми маршалами.
Резюмируем словами Эль Ажа: «Должность главного маршала царских лагерей и ратей – прекрасный образчик трансформации младшей должности в институционный миф. Сие случилось в силу веры в ее превосходство над саном маршала Франции, нежели в силу официального ее принятия». Полномочия главного лагерного маршала в период, так сказать, «бироновщины» (т.е. от старшего Бирона до младшего) принципиально не отличаются от тех, что даны Ледигьеру в 1621 и Тюренну в 1660, но зато образуют «две большие разницы» в сравнении с полномочиями Виллара. И лишь огромная слава Тюренна как великого полководца наряду с туманностью самого титула поспособствовали закреплению мифа о «генералиссимусе», которым наш герой, очевидно, хотел стать, но так и никогда и не стал.
@музыка: ток-шоу Окна
@темы: Тюренн, чины и должности Тюренна, Maréchal de camp général, коннетабль
Пролог - "Il più grande generale del tempo": генштабовский Евгений Савойский
Интересу к итальянскому походу Евгения в 1705 было суждено померкнуть на фоне триумфальной кампании принца в следующем году. Турин затмил не только Кассано (Cassano d'Adda), но и все предыдущие – и куда более громкие, чем битва на Адде – успехи принца в Италии. На русском языке о битве 1705 г. отечественный читатель может побаловать себя разве что статьей А.В. Беспалова из сборника о войне за Испанское наследство (2014) – краткой, но с боевыми расписаниями обеих армий. Из забугорных работ нельзя обойтись без «Походов принца ЕС» и биографии ЕС пера Браубаха на немецком, а также серии «Mémoires militaires relatifs à la succession d'Espagne …» под редакцией Во и Пеле на французском. На итальянском языке битве при Кассано посвящалась диссертация 1953 г. Дж. Щиреа. Из недавних штудий отметим полноценную книгу о битве
La battaglia di Cassano : protagonisti, storia e vicende umane della battaglia del 16 agosto 1705 e della Guerra di Successione spagnola in Lombardia / testi Maurizio Mandelli ; ricerche iconografiche e testi antichi Francesco Testa ; a cura di Edoardo Sala. - Cassano d'Adda : Pro Loco, 2005. - 216 p. : ill.
читать дальшеАвтор ее, М. Манделли, вносит свои уточнения: например, корректирует растиражированное в историографии число батальонов и эскадронов, имевшихся у Вандома – 36 бат и 47 эск (у Беспалова еще меньше – 32 и 3); на самом деле их гораздо больше из-за неучтенных сил. А также разоблачает как фальшивку запущенные Мартиньером данные о потерях имперцев в загадочном отчете "имперских комиссаров", с подозрительной точностью до человека (6.583 убитые, 4.347 раненые и 1.942 в полоне – эти числа гуляют до сих пор). Эту работу мы в первую очередь и посоветуем для всех, кто хотел бы самым подробным образом ознакомиться с битвой.
«…VOLERE SUBITO GIONTO IN ITALIA CERCARE UNA BATTAGLIA CON GLI ESERCITI DELLE DOI CORONE PER FAR MORIRÉ COL FERRO I SUOI SOLDATI AVANTI CHE DAL MAL GOVERNO DI QUESTO MINISTERO SIANO CONDANNATI À CREPAR DI FAME NELLA FUTURA CAMPAGNA»
Вернувшись из успешной командировки в Германию, ЕС в начале новой кампании 1705 г. снова направлен на «любимый» итальянский фронт. К тому моменту Вандом по-хозяйски разгуливал по Северной Италии: после взятия Верруа в Пьемонте французы обратились к осаде Мирандолы в Модене. Во-первых, то была последняя база австрийских войск к югу от реки По, во-вторых, просто надо было себя чем-то занять.
Стратегическая программа-максимум для ЕС в 1705 состояла в прорубании окна в Пьемонт, дабы помочь попавшему в беду родственнику – герцогу Савойскому Виктору Амадею, у которого французы оттяпывали одну крепость за другой и подбирались к столице – Турину. Но проблема Евгения была в том, что сил и средств для такой амбициозной задачи явно не хватало. Вот почему от принца откровенно ожидали чуда, как констатировал граф Вратислав в феврале: «Dessenungeachtet wird der Prinz in wenig Zeit von hier nach Italien gehen und trachten, ob er eben diesen Abgang mit seiner Person ersetzen und gleichsam wiederum ein neues Mirakel zuwegen bringen kann». Словно отвечая на процитированное приватное письмо австрийского дипломата, папский нунций в своем донесении из Вены выразил скепсис в отношении чудес: «in somma le apparenze sono che anche in questa campagna gl'Imperiali non far anno miracoli in Italia». Нунций, надо признать, был неплохо информирован о подготовке императорских войск к кампании в Италии.
Действительно, когда ЕС прибывает на театр боевых действий в конце апреля, то ужасается положению дел: все «weit ärger und miserabler», чем он опасался (цит. по: Браубах). У французов – численный перевес и господство над большей частью театра; императорские войска испытывают нехватку артиллерии, провианта и даже ружей. Не ожидая прихода всех войск, ЕС все же решает прощупать французскую оборону.
Первый акт кампании – «вандомовщина».
Вандом лично караулит ЕС у выхода на равнину и отражает попытку оного прорваться через реку Минчо. Зачем ЕС рискует, если еще не все подкрепления к нему подошли? Ведь Мирандолу, согласно Браубаху и Чиро, он и не думал спасать. Попытка ввести французов в заблуждение об истинном операционном направлении? Возможно, ибо ЕС теперича перебирается на другой берег озера Гарда и дожидается оставшихся подкреплений.
Под занавес акта Вандом почему-то решает, что его присутствие в Пьемонте для осады крепостей важнее, чем сдерживание лучшего имперского полководца, и оставляет армию на брата, Великого Приора.
Второй акт – марш Савойского
Результатом этого неосторожного решения стал глубокий прорыв ЕС к границам Миланесадо, и Великий Приор вынужден отступить для прикрытия самого, на его взгляд, нужного имперцам пункта – Кремоны. Фронт стабилизируется по реке Адда.
Вандом – странное дело – не спешит возвращаться на Адду и только по личному указу своего короля покидает осаду Кивассо и выдвигается против ЕС. Но битвы с ним не желает – ведь действо сие отложит вожделенную осаду Турина. Стало быть, не уверен в своей победе.
А чего реально хотел ЕС? Парадокс его миссии состоял в том, что она была одинаково опасна и в случае неудачи – при попытке прорыва, и в случае успеха, ведь выход к Виктору Амадею с имеющимися у ЕС скудными силами привел бы в конце концов к окружению в Турине: "даже если я доберусь до него [ВА] с радостию, я столкнусь с […] трудностями, ибо я окажусь в стране, удерживаемой врагом, привязанной к крепости [т.е. Турину], и он [Вандом] не замедлит прийти ко мне со всех сторон со всеми своими объединенными силами". Это не говоря еще о логистических трудностях подобного марша.
Манделли считает, что ЕС вполне мог быть доволен самим фактом выхода к Миланесадо:
«С имперской стороны [...] кампания шла неплохо: армия достигла границ миланского района и прочно обосновалась на позициях среднего [течения] Ольо, где противнику пришлось бы изрядно попотеть, чтобы отогнать ее. Эту кампанию можно было бы считать успешной, если бы не постоянные крики о помощи, издаваемые Витторио Амедео, оглушавшие все канцелярии союзной [антифранцузской] Европы из Турина». Союзнический долг понуждал ЕС «cercare una battaglia».
Третий акт - Аддское побоище
В историографии принято считать, что ЕС разыграл комбинацию с ложной переправой у Парадизио, чтобы затем напасть на французов у Кассано. Манделли резонно сомневается, что у ЕС вообще был план переходить у Кассано: принц намеревался броситься к Лоди или к По (а дальше что?), вот почему он не шел по ближайшей к реке дороге. ЕС «привлек Вандома далеко на север и был уверен, что умелым и быстрым маршем ему удалось бы добраться до Лоди раньше, чем Филипп [Великий приор, брат Вандома] мог знать о происходящем».
В Тревильо имперская армия выстраивается в БП и уже в нем марширует к Кассано. Дивизионная система еще не выдумана, и ЕС потратит драгоценное время на перестроение. Французы первоначально в численном меньшинстве, но они прикрыты рекой, их мост прикрыт укреплениями, сам «остров» запружен телегами, и имперцы не могут использовать сразу все свое численное превосходство.
Артиллерия имперцев была расположена неудачно и не смогла, очевидно, поддержать своих в момент борьбы за предмостное укрепление, в отличие от французской батареи. Имперцы даже якобы ворвались в это укрепление, но Вандом лично вмешался с ирландцами, по-большевистски взбодрив воинов («Товарищи!...
ЕС был ранен и удален с передовой, имперцы мал по малу выдохлись и не смогли большее организовать атаки на предмостное укрепление. Наоборот, к Вандому подошли части с правого фланга. Битва на этом по факту кончилась, но имперцы для виду простояли еще некоторое время до наступления темноты и только потом отошли за канал – веский по тем временам повод, чтобы петь Тэ Дэум.
На исполнение того же репертуара претендовал и Вандом, коего хвалит Манделли: «…герцог сумел в день Кассано получить прощение за свою легкость в качестве командующего армией… Вандом, часто медленный и запаздывающий, двигался с удивительной проворностью и сумел вернуть большую часть выделенных войск из Парадизо в Кассано»
Четвертый акт – стояние на реке Адда и отход Савойского
При Кассано ЕС потерял весомую долю своих солдат. Манделли, очевидно, вовсе не сгущает краски: «Cassano fu la più dura batosta súbita dalle truppe imperiali in tutte le campagne d'Italia, battaglia di Torino compresa». И это на фоне того, что к Вандому, и так имевшему общий численный перевес, после боя приходят дополнительные подкрепления. К ЕС не приходит никто.
Поэтому вплоть до октября принц не предпринимает больших движений. Лишь в эндшпиле кампании он своим маршем потревожил Вандома, но тот вовремя среагировал. В ноябре имперцы отступают на зимние квартиры.
Вандом не стал пассивно наблюдать отход своего врага. Сперва он поторопил переход имперцев через Ольо при помощи канонады по их лагерю, затем, когда ЕС решил перезимовать в районе Брешии, выгнал его дальше к северу, в район Кальчинато. Именно здесь в начале следующей кампании он одержит свою последнюю победу в Италии. Но, как кажется, в многогранное понятие «вандомовщина» незавершенность и обрыв на полуноте входят на правах фундаментальных категорий. Тогда, в ноябре-декабре 1705, атаковать ослабленного и измотанного противника Вандом все-таки не сподобился. Так ЕС сохранил «место для шага вперед», бесценный плацдарм, с которого можно снова спуститься на Паданскую равнину.
«DICIAMOLO LIBERAMENTE, IL PRINCIPE EUGENIO EBBE LA PEGGIO A CASSANO…»
Исход сего кровопролития явно не рассматривался принцем Евгением как неудача. В галерее в Турине картина с этой битвой спокойно висит среди других заказанных им полотен, запечатлевших куда более убедительные его победы.
Вандом и французская сторона в целом, разумеется, расценивали итог боя иначе. Но если бы только они… Например, разочарованный исходом боя герцог Савойский написал английской королеве в следующем пессимистическом духе: ваше обещание, Мадам, о прибытии принца Евгения похоронено битвой при Кассано. Некоторые биографы ЕС, при своем уважении к герою, также не разделяли его «оценочное суждение» итога битвы. Ожидаемого чуда не случилось, да и сам ЕС еще до Кассано признавался, что не мог сделать то, что было невозможно. По этому поводу Браубах заметил: «Nun, auch das Genie vermag mitunter gegen die Macht der Verhältnisse nichts, das hat gerade der Verlauf dieses italienischen Feldzugs von 1705 erwiesen».
Однако, вспоминая непростую стратегическую дилемму ЕС в этой кампании, вопрос «Кто же выиграл в битве при Кассано?» лучше заменить на «Кто выиграл от битвы при Кассано?».
Здесь нельзя не помянуть предыдущую схватку Вандома и ЕС – при Луццаре, с которой у Кассано прослеживается определенное сходство. Действительно, Луццара и Кассано – сражения-«побратимы», оба даны чуть ли не в один день с разницей в 3 года (15.08.1702 и 16.08.05 соответственно) и оба с неоднозначным исходом. Хотя в обоих случаях тактическая инициатива была у ЕС, стратегическая подоплека разная: в 1702 ЕС пытался остановить вражеское наступление мощным контрударом, в 1705 г., наоборот, сам тревожит обороняющегося Вандома. Парадокс в том, что после Луццары, которая часто оценивается как его «скорее победа», ЕС к концу кампании был фактически оттеснен и вытолкнут за Минчо, к Остилье, а после Кассано, которое «скорее поражение», он еще 2,5 месяца спокойно простоял за Аддой, угрожая вторжением в Миланесадо, а в итоге добился отсрочки осады Турина.
А чего хотел Вандом после Кассано? Воистину гений его был «парадоксов друг», ибо он изъявил одновременно 2 противоречивых желания:
1) Он решительно против отсрочки осады Турина. Он жаждал начать осаду осенью 1705.
2) Но в то же время он затребовал подкрепления от Ля Фейяда и получил их, ослабив войско, предназначенное для осады Турина! Вандом даже после своей «победы» при Кассано реально опасался повторного нападения ЕС (это видно из его писем)
Напомним ход событий: Верруа была взята французами еще в апреле, Кивассо - в конце июля, а значит, время на осаду Турина вполне имелось, опыт ведения осады зимой был (осада той же Верруа началась 14 октября 1704). Да и кто сказал, что осада продлится до зимы? Вандом убежден в легкости взятия столицы Виктора Амадея и ободряет короля: мы Верруа взяли, а Турин(!) и подавно. Ля Фейяд вроде как тоже верит в быстрый успех; сохранился даже легендарный диалог, якобы имевший место между самонадеянным зятем Шамийяра и Вобаном, состоявшийся в духе известной телеигры: "Я угадаю эту мелодию с 3 нот! - А я с одной!" Вобан, маршал, был готов встать под начало Ла Фейяда, генерал-лейтенанта, чтобы помочь ему взять город: «je mettrai mon bâton derrière la porte et je prendrai la place en un mоis". На что следует дерзновенный ответ: «Et moi je la prendrai à la Cohorn, sans circonvallation, en attaquant la citadelle». (Упоминание конкурента – Когорна – должно было особенно «обрадовать» Вобана).
С другой стороны, при всем кажущемся рвении Ля Фейада, Вандома начинают терзать смутные сомнения в искреннем желании оного начать осаду Турина в текущем (1705) году, поэтому он предлагает королю махнуть их двоих местами – его самого отправить под Турин, а зятя Шамийяра – против ЕС. В письме от 1.10 он открытым текстом предупреждает короля: не возьмем Турин сейчас, не возьмем никогда (как в воду глядел!) и с горечью признает, что ЕС, несмотря на «поражение» при Кассано, вот-вот добьется своей цели – отсрочить осаду столицы своего венценосного родича.
Если принять, что прорыв к Турину не являлся непременной и единственной целью ЕС, надо признать: он неплохо помог герцогу Савойскому, оттянув на себя внимание и перенеся премьеру блокбастера «Осада Турина» на следующий сезон. Кассано в таком ракурсе стал и оправданием перед Виктором Амадеем за неявку (без обид, сделали все, что могли, сами видите), и фактором постоянного напряжения для французов (Вандом отныне ждал нового нападения ЕС и забрал часть войск из Пьемонта).
…В том же письме, где он предрек стратегическую победу Евгения в случае отсрочки осады Турина, Вандом-провидец нарисовал Людовику-Солнцу мрачную перспективу: «Мы будем уничтожены по всей Италии, и Пьемонтская (французская) армия потеряет всю репутацию, которую она приобрела». Как видим, отсрочка осады все же случилась, и в следующей кампании ЕС сделает все, чтобы подтвердить пророческий дар своего французского кузена…
@музыка: ток-шоу Окна
@темы: Кассано, Вандом, Евгений Савойский
Нет недостатка в работах о ратных свершениях Евгения Савойского – чего стоит один только 21-томный колосс австро-венгерского генштаба, не говоря уже о бесчисленных исследованиях про отдельные походы и сечи. Тем не менее, всегда сохраняется потребность в общей военной биографии, наподобие блестящего чандлеровского труда про соратника ЕС – герцога Мальборо, где под одной обложкой уместились и военная карьера героя, и детали его кампаний и битв, и анализ полководческого искусства.
Книги подобного формата выходили и про ЕС, и сегодня мы остановимся на одной из них, не так давно изданной, причем еще одним генштабом – на сей раз итальянским. Не стоит удивляться итальянскому интересу к ЕС: уроженец Парижа, до конца дней верно служивший Вене, в Италии он, если учесть его родословную, остается своим человеком, «итальяно веро».
Ciro Paoletti. Il Principe Eugenio di Savoia. Ufficio Storico dell'Esercito. Roma, 2001.
читать дальше

Это увесистая книга на 600+ страниц мелкого шрифта, с простенькими картами и редкими иллюстрациями. Интересна она личностью одного из его авторов - генерала Натале Пентималли (1882-1955). Он учил наш великий и могучий и не единожды посещал «Russia zarista». Пентималли даже перевел на итальянский записки о войне с Японией одного печально известного русского генерала («Memorie del generale Kuropatkin»). Являлась ли задача переводить мемуары Куропаткина наказанием для итальянского военного, не сообщается. Но в целом это хорошо – не все же нашим итальянцев переводить, должен быть и обратный процесс. Правда, Макиавелли или Монтекукколи супротив работ Куропаткина – размен, наверное, не вполне эквивалентный. Ну, чем богаты.
Пентималли много лет изучал жизнь ЕС, готовил «una monumentale biografía», но не закончил ее. После его смерти наследники передали этот труд в исторический отдел итальянского генштаба (такой отдел есть в любом уважающем себя генштабе), где решили доработать и опубликовать книгу. Заочным соавтором выступил итальянский историк Чиро Паолетти, «storico militare esperto del periodo compreso fra il 1680 ed il 1750», который и поныне радует своего читателя книгами не только по означенному периоду, но и по другим – см., например, этюд про Курскую дугу (хотя более логичным для итальянца был бы интерес к Сталинграду…).
Несмотря на издание книги под эгидой итальянского генштаба, серьезного, как нам кажется, органа, авторы вовсю дают волю эмоциям (например: нелестная характеристика боевых качеств датских воинов, которые названы к тому же… «дураками»; «идиотские» приказы для ЕС из Вены (вот здесь трудно не согласиться; досталось и английским историкам, но об этом - ниже). Бросается в глаза интерес к фигуре Виктора Амадея – герцог Савойский показан мудрым государственником, искусным дипломатом и проницательным полководцем.
В аннотации уверяют: « в основе труда во многом лежат неопубликованные архивные источники» - фонды раздела I Туринского государственного архива, Секретного архива Ватикана и т.д., но очень много взято из уже опубликованных австрийцами в «Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen» и из работы Феррари.
«IL BRILLANTISSIMO, PRONTO E SCATENATO GENERALE»
В представлении историков генштаба Италии Евгений Савойский – достойный наследник другого великого итальянского воеводы, Раймондо Монтекукколи, ибо добился тех же высот, только с бОльшим вау-эффектом. С другой стороны, принц на короткое время выступил в роли сенсея для будущего прусского короля Фридриха Великого («Хорошо же Ваше Величество отблагодарили учителей своих» ©). И для своего времени он заявлен самым великим кондоттьеро, с чем, конечно, могут не согласиться почитатели ратных талантов Петра Алексеевича, Мальборо, французских маршалов и разных прочих шведов.
Как и в книге Чандлера, отдельная глава припасена военному искусству эпохи. Паолетти указывает здесь несколько отличное от принятого в нашей историографии время зарождения и распространения «глубокого» (колонны) боевого порядка и считает, что французы официально приняли его после публикации теории Фолара(?). ЕС, оказывается, при Турине уже вовсю использовал «ordre mixte», смешанную систему, где впереди – линия, а за ней – восемь колонн. А все потому, поясняет автор, что не следует под колоннами понимать только «tipo napoleonico».
«Né ci si deve stupire per questo peculiare impiego della fanteria. Eugenio era infatti noto ai suoi tempi non solo come un maestro nell'impiego di essa, ma perché pure l uso della grande artiglieria, la resistenza colla cavalleria leggiera erano argomento dei suoi studii». ЕС не был сугубо кавалерийским офицером, а специалистом широкого профиля: «non era esperto dell'impiego d'un'arma sola, ma di quello coordinato di tutte insieme. Era una necessità per chi combatteva contro i Turchi». Как он чудесно использовал артиллерию: «E per chi considera Eugenio un ufficiale di cavalleria, è sorprendente vedere quale priorité assegnö in quelfoccasione all'impiego dei cannoni», как извлекал выгоду из легкой кавалерии, используя ее в передовом дозоре «in modo naturalissimo».
Зато молчит Паолетти о полиоркетических талантах ЕС, хотя оному случалось проводить осады довольно крупных и мощных пунктов.
Не держась за чисто военную тематику, авторы достаточно подробно остановились на управленческом опыте ЕС в назначенных ему (в разное время) Миланесадо и Австрийских Нидерландах: как он бился за ломбардских ткачей, как экспериментировал с тем, что сейчас называется оптимизацией налогообложения, как доверился маркизу де Прие. «Nel complesso il governo d'Eugenio in Belgio non differi molto, nei mezzi, nei fini e nei risultati, da quanto era stato fatto a Milano». В целом же деятельность ЕС на благо Габсбургам имело для австрийской монархии долговременные последствия: «L'impero riorganizzato … da Eugenio restó sostanzialmente immutato fino al 1918 e - e questo fu il suo disastro - non conobbe mai più uomini politici [такого пошиба]». Большую роль здесь сыграли и победы ЕС: «A Torino nacque Austria che sarebbe morta nel 1918».
"ЭТО ВСЕ ПРИДУМАЛ ЧЕРЧИЛЛЬ…": ЕВГЕНИЙ vs МАЛЬБОРО
«la sua abilità strategica venisse a malapena eguagliata da Marlborough»
Паолетти считает успешную деятельность тандема ЕС и его знаменитого товарища с затуманенного Альбиона прямо-таки историческим феноменом. Кто же был круче?
Сопоставление ЕС с Мальборо вышло весьма эмоциональным и вылилось по большей части в полемику с англоязычной историографией, и в первую очередь, конечно же, с сэром Уинстоном Черчиллем. В пиар-биографии герцога Мальборо тот имел неосторожность так отозваться о ЕС в связи с кампанией 1707 г. и осадой Тулона: «Принц… был организмом сухопутным, обитателем Центральной Европы. Он не понимал моря; а то, что он знал о море, вызывало в нём нерасположение и недоверие. Он не постигал амфибийной стратегии» (перевод Crusoe). Паолетти бьет наотмашь: «Истина совершенно иная, при всем уважении к англосаксонским историкам. Ойген очень хорошо понимал и море, и стратегию, в том числе амфибийную, и он знал, к чему [все] идет. Это англичане ничего не понимали, и именно они скомпрометировали экспедицию».
Черчилль приписывает Мальборо план сражения при Бленхейме? Полноте, господа! «Come si vede le disposizioni ... dimostrano, con buona pace di Churchill, che il piano di Höchstädt non era stato del suo antenato Marlborough bensi di Eugenio».
Соответственно, заслуга триумфа при Бленхейме по большей части выпадает на долю ЕС – разве читатель не узнает здесь фирменный стиль Зенты и Турина?
А кому принадлежит идея обходящего удара Оверкирка при Ауденарде? Мальборо? Окститесь: «prendiamo per buona la versione secondo la quale Eugenio s'accorse che esercito francese era schierato cosi da poter essere avvolto sulla destra e aile spalle…»
Впрочем, без Евгения Мальборо все же смог каким-то чудом победить при Рамийи. Паолетти парирует: этот успех распиарили как una vittoria strategica definitiva, а стоило французы оттяпать в 1708 г. всего два пункта, как коммуникации союзников снова оказались под угрозой! Да и в целом роль британских войск не следует переоценивать: «Il Belgio era stato preso grazie a Ramillies? Ma quella battaglia era stata vinta dai sanguinoso sacrificio delle truppe olandesi e anche danesi; gli Inglesi - e era vero - avevano combattuto molto meno dei loro alleati».
А с каким трудом ЕС уговорил герцога возвести укрепленные линии, которые позволили прикрыться от подошедшей на выручку Лиллю фр. армии! И ведь Мальборо поначалу упрямился, показав свою ограниченность. И вообще его стратегическое мастерство едва дотягивало до космического уровня принца.
В тактическом плане Мальборо в сравнении с ЕС представлен как грубый ремесленник на фоне искушенного маэстро. Его тактика «pesante e massiccia». Здесь мы уже видим у Паолетти некую общую реакцию на распиаренных английских полководцев:
«Мальборо - как и все английские генералы вплоть до Монтгомери[?] во время Второй мировой войны, за исключением только Клайва и Веллингтона [???] - предприняли мощные атаки на то, что можно было считать ключевой точкой противника, не считаясь с потерями. Следовательно, он [Мальбрук] привлек к ней крупные […] силы и пытался их разрушить и прорвать. Если ему это удалось – хорошо; если нет – он бросал свои резервы на другой пункт, который, несомненно, не был защищен вражиною, чтобы укрепить уже находящийся под атакой, прорвался туда и выиграл. У такой тактики был только один недостаток: ее нельзя было применить в условиях численного перевеса супостата. Мальборо никогда не смог бы победить при Петерварадино, Торино или Белградо, как [это сделал] Ойген, и, что более важно […] – даже в Хёхштадте, если бы Ойгена не был там».
Ну, это понятно, что без Евгения Мальборо не выиграл бы ни Бленхейма, ни Ауденарде, ни Мальплаке. Он даже Рамийи, смеем предположить, выиграл только благодаря тому, что мысленно представил рядом с собой принца. А вот про численный перевес как залог викторий Джона Черчилля – это уже фактическая ошибка: для Бленхейма сам же Паолетти дает 56 тыс у тандема против 60 тыс у врагов, при Мальплаке – принимает версию Чандлера о соответственно 110 тыс против 120 тыс. При Рамийи силы примерно равны, а при Ауденарде и по общему количеству сил союзники чуть уступали (Чандлер), и обстоятельства завязки боя не давали им численного превосходства. Да и уместно ли уравновешивать боевые качества французов и турок – большой вопрос.
Разумеется, общее сравнение не в пользу англичанина:
«Он был так же умен [...], как Эудженио, почти таким же хорошим полководцем, как Эудженио, и их идеи полностью совпадали во всем, что касалось политики и военного искусства. Но их родство [на этом] закончилось; и если у Эудженио были какие-либо недостатки, он пытался их исправить, в то время как в своих Мальборо […] счастливо валялся и чувствовал себя комфортно с ними» (перевод гугл feat. яндекс).
И вспомните, благодаря кому выдвинулся Мальборо? Где бы он был без помощи своих женщин? А Евгению дамы не помогали, сам поднялся, «своими руками»...
И уж, конечно, ЕС был круче Вандома: как тактик тот более-менее приближался к нему.
«CHISSÀ UN GIORNO SE MI SPOSO…»
«Его поведение было безупречным с моральной и религиозной точек зрения»
Авторы не преминули рассказать и о личности ЕС. Нарисован облико морале - высоконравственного человека, набожного христианина, несмотря на то, что он вырос в атмосфере распутства парижского высшего общества.
«Nel mezzo delle sue operazioni militari portava con lui il picciolo, ma prezioso libro Della Imitazione di Gesù Cristo, e lo leggeva nei momenti di calma, e di riflessione". За регулярные избиения иноверцев-османов Папа удостоил ЕС «la cerimonia dello Stocco e Berrettone».
Но куда больше Паолетти (да и нас, что уж греха таить) интересует
Отношения ЕС с прекрасным полом были таковы, что название одного из аббатств, данных ему в «кормление» в 1690-е – «Казанова» – кажется злой иронией фортуны. Сходство со знаменитым венецианцем, пожалуй, лишь в том, что принц так и остался холостяком.
Но обо всем по порядку.
Что касается постыдного обвинения в omosessualità, то принца попросту оклеветали, нагло оклеветали. Кто? Дамы, разумеется.
Постаралась графиня Орлеанская: ее мать в свое время завидовала фавору матери ЕС. Ее-то сплетни о ЕС через десятки лет и повторила дочь. Ох уж эта женская ревность, бессмысленная и беспощадная… Дровишек подкинула и леди Страффорд: ЕС во время своего визита в Лондон совсем не вел никаких шашней с тамошними барышнями! Согласитесь, железный показатель для определения ориентации [Стаффарда и Страффорд – с этими словами у ЕС явно остались негативные ассоциации]. Так же и в бытность свою в Венеции ЕС воздержался от амурных забав. Паолетти поясняет: для ЕС всегда первым делом были «самолеты», т.е. война и политика, ну а девушки – а девушки потом. Да не мог он, ответственнейший человек, облико морале, думать во время своих дипломатических миссий о каких-либо интрижках, особливо в Лондоне: свяжись он со сторонницей тори или вигов (существования «беспартийных» девиц в тогдашней Англии Паолетти почему-то не допускает…) – и крах его миссии гарантирован.
Любопытны и причины, по которым ЕС так и не нашел себе суженую. Паолетти прикидывает те социальные слои и государства, в коих ЕС мог искать невест, и последовательно отметает их: одни слишком высокого пошиба, другие, наоборот, слишком низкого, в одном случае (испанском) помешали внешние обстоятельства, в другом (мантуанском) – личные мотивы. ЕС все никак не определялся, а время тикало: «e poi lui ormai aveva toccato i cinquant'anni e forse si era abituato a star da solo; e più la politica lo assorbiva e più si allontanava dai matrimonio». Хотя была еще графиня Баттьяни, но и здесь не дошло до женитьбы.
Рассуждения автора о брачном тупике Евгения кажутся во многом умозрительными. Например, что женитьба на представительнице австрийской знати означала бы его вовлеченность в определенную политическую группировку, а значит, в соответствующую борьбу, и что «in caso di crisi gli sarebbe mancato un sufficiente spazio di manovra e la sua carriera ne sarebbe uscita interrotta, o peggio annullata». Но ЕС и так был вовлечен в борьбу и в самый критический момент (дело Nimptsch-Tedeschi) как раз запугал императора отставкой. Так что вряд ли ему стоило опасаться за карьеру, особенно если речь идет о времени после Зенты, или, на худой конец, Турина.
Захотел бы жениться - женился, нэссун проблэма !
@музыка: Аквадискотека
@темы: Мальборо, Paoletti, Евгений Савойский, Пентималли, это все придумал Черчилль
Доступ к записи ограничен
Доступ к записи ограничен
Доступ к записи ограничен
НАУКА ИЗВРАЩАТЬ, или ИТАЛЬЯНСКИЙ «OMAGGIO» СУВОРОВУ
290-летие со дня рождения великого русского полководца – это отличный повод еще разок взглянуть на то, что знают и как оценивают ратный гений Суворова в зарубежной, конкретно – в итальянской историографии, на примере книженции про развитие европейской огневой тактики в 16-18 вв:
читать дальшеGiovanni Cerino Badone. Potenza di fuoco. Eserciti, Tattica e Tecnología nelle guerre europee dal R i n a s c i m e n t o all'Età d e ll a R a gio n e
Особенностью таких книг традиционно является замкнутость на Западной Европе (в широком смысле сего определения). Для их авторов военная история вертится исключительно вокруг разборок англичан, французов, испанцев, немцев и разных прочих шведов. Итальянский автор, к тому же, предсказуемо фокусируется на битвах на родной земле – Павия, Турин, Бальсилья… Посему довольно удивительно было прочесть название последней главы: «Stupide pallottole e sagge baionette». Неужто взгляды Суворова все-таки обрели должное признание за рубежом?
Но не тут-то было: большая часть главы уделена вовсе не генералиссимусу, а военной истории Европы после Семилетней войны до Французской революции.
Лишь в конце главы Бадоне великодушно уделил полторы страницы Суворову, дав краткую справку о его деятельности и тактике. Оцените, на что именно Бадоне счел нужным обратить внимание своих читателей: приписал Суворову подавление пугачевского бунта, сделал акцент на количестве убитых русскими войсками турок (26 000 «tra militari e civili») и поляков (якобы 13 000) при взятии Измаила и Праги соответственно. Вместе с тем, Суворов охарктеризован как «il generale russo che aveva vinto piu scontri in assoluto dall'epoca di Pietro il Grande». Какое представление должно возникнуть о Суворове у итальянских читателей?
Далее Бадоне обращается к «Науке побеждать» - «Come Vincere». Не утруждая себя поиском русского оригинала, он цитирует Суворова через книгу К. Даффи о кампании Суворова 1799, то есть переводит с английского, в результате этого двойного перевода получается нечто местами курьезное:
Оригинал: «Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится: пуля — дура, штык молодец. Коли один раз, бросай басурмана с штыка: мёртв, на штыке, царапает саблею шею… (Суворов. Документы. Т. 3)
Перевод: «Sparare lentamente, ma sparare con precisione. Credere infinitamente sulla baionetta. Un proiettile puó sbagliare, ma la baionetta no; la pallottola é una pazza puttana, ma la baionetta é una compagna fedele! Colpisci una volta, e quindi togliti il Turco dalla punta della baionetta. Stai atiento, potrebbe sembrare morto, ma ha ancora abbastanza vita da tagliarti il collo con la sua spada» (с. 196).
Далее: «В 1799 году он был поставлен во главе австро-русской армии, предназначенной для борьбы с французами на севере Италии. Но одно дело - воевать с турками и польскими повстанцами, другое - противостоять хорошо обученной и оснащенной европейской армии, такой как французская в 1799 году».
А мужики-то не знали… Суворов как будто в упор не видел разницы между французской и османской армией! Итальянский поход как раз и подтвердил, если угодно, универсальность суворовской военной системы, ее способность «атаковать, гнать и бить» не токмо османов с поляками, но и одну из лучших европейских армий.
Бадоне продолжает нести ахинею о Суворове: «Его стратегическая мысль была очень примитивной и фактически основывалась на нападении на врага, где бы он ни находился, в то время как штыковые атаки были чрезвычайно дорогостоящими с точки зрения человеческих жизней».
Ну если так утрировать и упрощать суворовскую стратегию, то к числу примитивных стратегов можно отнести многих великих военачальников. Например, один из соотечественников Бадоне, выходец с Корсики, с подобной же примитивной стратегией вообще пол-Европы покорил; в частности, два раза примитивно вышвырнул австрийцев из Италии, как и Суворов в 1799 - французов. Жаль, что Бадоне не поясняет, что он считает при этом «умной» и «непримитивной» стратегией; может быть, это та стратегия, которой руководствовалась доблестная итальянская армия в войнах XX века?
В стратегии важна не ее «умность» или «сложность», а эффективность. Суворов за достаточно короткий срок вымел французов из Италии, что от него и требовалось, одержав несколько безоговорочных побед. Об этом надо было сказать, Джованни.
Смеемся далее: «Агрессивность Суворова подвергла испытанию дух русских войск до такой степени, что в октябре 1799 года они были деморализованы так, что «не были в состоянии функционировать как армия».
То есть это не навязанный Суворову переход через Альпы, не откровенное кидалово со стороны австрийцев, а единственно агрессивность фельдмаршала (его «примитивная» нападательная стратегия) подкосила русскую армию. Браво, Вано!
И ни слова про победы при Адде, Треббии, Нови. Как будто их не было вовсе или они были одержаны не Суворовым, а кем-то другим.
Затем синьор пишет, что русские войска, испытав на себе огневую мощь противника, якобы до того испугались снова встретиться с французами, что изъявили желание вернуться в Россию (приводится ссылка на книгу Ротенберга про эрцгерцога Карла). «Пуля-дура одолела мудрый штык», - философски заключает Бадоне. Эвона как, значит, русские настолько убоялись огневой тактики французов, что с перепугу прогнали их вон из Италии?
У Бадоне удивительный подход: тактику, которую Суворов рекомендовал против турок, он шаблонно переносит и на кампанию 1799, не заморачиваясь вопросом, как воевали русские на самом деле. Вот что пишут знающие люди: «В воспоминаниях офицеров, принимавших участие в походе в Италию и Швейцарию в 1799 году, есть много примеров того, как русская пехота быстро обращала французов в бегство штыковой атакой (Жмодиков А. Л. «Наука побеждать». Тактика русской армии в эпоху Наполеоновских войн. С. 359). Это по поводу «ущербности» русского штыка пред французской пулею.
Теперь о «презрении» Суворовым огня: «Постоянный упор на штыковую атаку не означает, что Суворов пренебрегал ружейным огнем. На самом деле он настаивал на том, чтобы войска обучались прицельной стрельбе…» (Там же. С. 360); «Развернутый строй, совмещавший в себе возможности огневого и штыкового уларов, вполне отвечал задачам, стоявшим перед пехотой Суворова при встрече с французской пехотой в 1799 г. Мощный огонь из развернутого строя, значительно превосходивший своей плотностью огонь стрелковой цепи, мог полавить противника в период подготовки атаки, после чего следовал штыковой удар, который французские стрелки определенно не могли вынести» (Золотарев В.А. Генералиссимус А.В. Суворов: вершины славы. К 200-летию швейцарского похода А.В. Суворова. С. 373). В общем, и пуля не дура, и штык - молодец. Однако и не стоит сводить все к действию штыками и огню. Суворовская тактика всех трех родов в целом продемонстрировала свою действенность против «прогрессивных» французов, а не только против «отсталых» османов.
Мнение Бадоне, основанное на неудовлетворительном знании фактологии и использовании работ англоязычных авторов, является ярким образчиком того, что думают про А.В. Суворова в современной итальянской историографии. Вместо omaggio мы сталкиваемся с тем, что в итальянском зовется «cialtroneria». Это «здесь, у нас» в России переводят Монтекукколи и с придыханием говорят про Евгения Савойского и иже с ним, а «там, у них» налицо отсутствие сколь-либо заметного интереса, равно как и желания расширить кругозор и подробнее узнать о деятельности великого русского полководца.
@темы: Суворов, Бадоне, итальянская ахинея про Суворова, нет, не про Тюренна
Доступ к записи ограничен
1. Пролог. Должности и звания Тюренна во французской армии.
2. Mestre de camp, или Слово о полку Товраинове.
3. Забытая должность Тюренна
Не успел Тюренн толком привыкнуть к своей новой должности (см. «Забытая должностьТюренна»), как в июне 1635 его удостоили нового звания - maréchal de camp.
Этот диковинный чин внес немало сумятицы: отечественные военные историки пытались подобрать ему соответствующий эквивалент в современной иерархии («генерал-майор», как мы уже видели у Рутченко), переводчики - корректный перевод без «негативных отсылок к посторонним ассоциациям » (в нашей литературе есть варианты «лагерный/лагеря», «полевой» или просто «маршал де камп»); а французские писатели норовили спутать его с маршалом Франции (как это сделал Дюма в отношении своего любимого гасконца, что погиб при осаде Маастрихта в момент получения маршальского жезла; реальный же его прототип за год до смерти действительно стал маршалом – только лагерным, а не Франции – см. [1] и [2]).
читать дальшеДо распространения звания генерал-лейтенанта лагерный маршал являлся последней ступенькой на пути к достоинству маршала Франции и считался его копией меньшего пошиба: «on les appelle maréchaux de camp, parce qu'ils y ont le commandement pour en ordonner la disposition, à proportion comme le maréchal de France l'a sur toute l'armée» [3]. Этих маршалов обнаруживают в 1552 г. при Франциске I, но лишь при Генрихе IV стали исполнять свою должность не временно, а пожизненно [4, т.1; 2, т.6]. Посему с конца 16 века его уже можно спокойно рассматривать как звание [1]. Оформление военной иерархии шло медленно, но верно, и «лагерный маршалат» постепенно становится необходимой ступенькой для получения маршальского жезла. По подсчетам Эль Ажа, если в первой четверти 17 века эту ступень перепрыгивали почти каждые 2 из 5 маршалов (а из 31 маршала Справедливого короля чуть ли не добрая половина), то на более длительном отрезке – до 1658 – уже только 1 из 5, а в период 1675-1693 – вообще ≈ 1 из 6 [1, таблица 8].
В круг обязанностей данных маршалов согласно книге Лостельно «Марешаль де батай» входило следующее: «…le Mareschal de Camp accompagné des Officiers Majors qui l'ont suivy, fera le tour du quartier, reconnoistra le lieu le plus commode & le plus seur pour camper l'armée, marquera vn champ de Bataille pour la pour la ranger en cas d'alarme, & en fuite marquera le parc pour les vivres & ceiuy de l'artillerie» + «faire exercer les troupes tant de Cavalerie que d'Infanterie». + «Outre le soin que le General doit avoir de toutes choses, il doit encore charger les Mareschaux de Camp chacun en particulier de quelque chose dont il les obligera de luy rendre compte tous règlement: par exemple, l'un prendra soin des vivres, un autre des munitions de guerre & des chofes despendantes de l'Artillerie ; un de l'Infanterie, & un autre de la Cavalerie 5 des travaux s'il y en a à faire; de racommoder les chemins par où l'armée doit passer; de visiter les gardes, & autres choses necessaires…» [6]
Со временем лагерные маршалы приобретали новые функции, уже не связанные со штабной работой: в частности, стали командовать частью армии, резервом или флангом во время сражения [4; 5].
Важно отметить, что лагерный маршал в намечающейся командной иерархии станет первым званием из числа «officiers généraux»; стало быть, Тюренн взял первую генеральскую высоту в неполные 24 года! (К слову, второй ген. высоты на тот момент еще не существовало – lieutenant général сделается званием несколько позже). Однако тюреннов «лагерный маршалат» в тех армиях, где ему доведется служить, не всегда будет безраздельным. Дело в том, что изначально для одного войска хватало одного лагерного маршала, но к 1630 г. маршал Франции мог иметь в распоряжении двух и даже более таких помощников, в 1643 г. во всех армиях было уже 5 лагерных маршалов [5; 4, т.1]. Так, в 1635 Тюренн в армии маршала Ла Валетта имел напарника в лице Антуана де Грамона, ставшего лагерным маршалом всего на несколько месяцев ранее нашего героя. С равными по званию Тюренн столкнется и в Италии (см. Игра в догонялки: Тюренн против Цезаря).
ПОДАРОК ДВУХ КАРДИНАЛОВ
Мысль о повышении, наряду со вспыхнувшим чувством к жене своего родного брата, обуревала Тюренна, наверное, всю вторую половину 1635 г. Впрочем, в корреспонденции это нашло мало отражения – не только по причине ее частичной сохранности, но и в немалой степени из-за суперскрытности автора. В письмах матери о перспективах стать лагерным маршалом Тюренн осторожен аки шпион («C’est une chose tout à fait secrette dans l’armee» [7]), просит мать не называть «эту должность», поскольку письма могут быть прочитаны посторонними. Тюренн верен себе, ибо о перипетиях получения предыдущей своей должности он также никому не сообщал в армии.
Не сказать, что виконт имел для своих неполных 24 лет поражающий воображение послужной список. Не забудем, что помимо службы французскому королю, он то и дело отвлекался в голландскую армию (см. Тюренн в отечественной историографии ). Тюренн имел в активе отличие при осаде Ла Мот в 1634, а в марте 1635 его полк участвовал в успешной осаде Шпейера. Несомненно, его ратный талант был очевиден, но если бы все зависело только от него. Важнее всякого боевого резюме оказалась протекция его покровителей: Тюренн в рассматриваемый период находился со своим полком в Рейнской армии под командованием кардинала Ла Валетт и был у того на хорошем счету. Кардинал рекомендовал своего подчиненного другому кардиналу – Ришелье, намекая, что Тюренн уже засиделся в полковниках и пора бы его повысить (архивное письмо приводится в книге Беранже [8]). Еще один промоутер Тюренна, маршал де Брезе, после Шпейера оповестил королевский двор о заслугах виконта и прямо предложил сделать своего протеже лагерным маршалом.
Сам Тюренн, судя по письмам, не был уверен в скором повышении. Однако в мае Франция официально ввязалась в Тридцатилетнюю войну, швырнув перчатку Испании. Логично, что в Париже решили по такому торжественному случаю пополнить ряды генералитета наиболее достойными претендентами. И в июне 1635 лагерными маршалами стали сразу пять лиц, из них три были повышены в один и тот же день: здесь был и наш полковник, как, кстати, и его будущий соперник дю Плесси.
Тюренн это описывал так: в конце июня он и его патрон Ла Валетт прибыли в Париж, где уже на следующий день были приняты Ришелье. Кардинал, писал Тюренн, «m’a fait extrêmement bonne chère et m’a dit que j’allois estre mareschal de camp dans l’armée que M. le cardinal de La Vallette va commander». Тюренн не скрывал своего счастья («Je n’eusse pas peu avoir une plus grande joie»), хотя, кажется, даже тогда не до конца верил в него: «Monsieur le Cardinal m’a dit si affirmativement que le Roy l’avoit fait que je croi n’en devoir plus douter». Но на следующий день уже сам король развеял последние сомнения:
« J’ay veu le Roy à Fontainebleau, qui m’a fait extrêmement bonne chère et m’a confirmé ce que Monsieur le Cardinal m’avoit dit». Вскоре счастливый лагерный маршал отбыл обратно в армию.
В своем новом звании Тюренн задержится дольше, чем в остальных своих чинах – на целых семь лет. Не слишком ли это долго, учитывая, что, например, вышепомянутый Грамон в 1642 будет уже почти год как маршалом? Или де Брезе, который в свое время раскрутился от лагерного до маршала Франции всего за 2 года? Но в ту эпоху, когда военная иерархия только оформлялась, еще не существовало каких-либо «исторически сложившихся» сроков пребывания в том или ином звании. Тюренн, кстати сказать, опередит того же дю Плесси и в чине генерал-лейтенанта, и в достоинстве маршала. В нашем случае полезнее будет ориентироваться на возраст получения маршальского жезла: у Тюренна в этом плане была весьма и весьма стремительная для его эпохи военная карьера (о среднем возрасте обретения маршальского достоинства по периодам см. [1], глава 6 и таблица 7), на зависть многим конкурентам.
[1] Эль Ажъ Ф. Исторія маршаловъ Франціи
[2] Пинаръ. Военно-историческая хронологія
[3] Патеръ Даніэль. Исторія французской милиціи
[4] Сикаръ. Исторія ратныхъ установленій французовъ
[5] Тіонъ С. Французскія рати въ Тридцатилѣтней сварѣ
[6] Лостельно. Марешаль де батай. 1647
[7] Lettres de Turenne extraites des archives Rohan-Bouillon
[8] Беранже Ж. Турень.
@музыка: ток-шоу Окна
@темы: Тюренн, marеchal de camр, лагерный маршал, чины и должности Тюренна
Короче-он, как всегда, блестяще распорядился теми силами в той обстановке, что имел, но создания системы я здесь не вижу, в дальнейшем он к такой схеме не прибегал. Он был великолепный полководец, герой, прекрасный руководитель […] но на отца военной революции не тянет».
Satchel17.livejournal.com (орфография и пунктуация автора сохранены)
читать дальше
«ОТЕЦ» – КОМУ?
Стараниями нескольких поколений историков к ГК прочно приклеен ярлык большого военного реформатора. «Сreador del ejercito moderno», «restaurador del arte militar moderno», «padre de la guerra de trincheras», «el más relevante y revolucionario general de su época», «великий создатель испанской пехоты», полководец, который «ha forgiato lo strumento a ció necessario, ponendo veramente le basi dell'esercito spagnolo dei tempi moderni», «verdadero autor» военной революции (если таковая имела место быть) – это далеко не полный перечень пышных эпитетов испанского командира в историографии. Заметим, что в качестве «капитанских дочек/сыновей» выступают разные категории: и испанская пехота, и военное искусство (сюда же относится «военная революция»), и даже конкретно окопная война… Идея об испанской пехоте как «дочери» ГК находит свое логическое завершение в тезисе о том, что ГК якобы создал знаменитые терции.
Естественно, приписывание одному лицу «отцовства» чего-либо, будь то испанская армия или русская демократия, изначально несет утрированный, а иногда и чисто символический характер. В случае с ГК штамп слишком сильно укоренился, чтобы просто отмахнуться от него. В этом историографическом очерке мы постараемся выяснить, какие конкретно достижения ставят в заслугу ГК и что он реально «породил» в сфере войны и соответствующего искусства, или, используя формулировку Пьери, « entro quali limiti il Gran Capitano puó essere considérate il creatore del nuovo esercito spagnolo ?»
КАТЕХИЗИС РЕВОЛЮЦИОНЕРА: военное наследие ГК в историографии
Когда англоязычные историки развивали пресловутую концепцию «военной революции», они не просто вычеркнули испанскую армию из числа участников «революционного» движения, но и припасли ей роль «реакционной контры», или, по меткому выражению Жана Шаньо, «пугала» [1]. Испанская историография, очнувшись, заявила, что ее страна отнюдь не плелась «в хвосте живого дела революции», а наоборот, в самом что ни на есть авангарде. Э. Мартинес Руис перечислил эти прогрессивные параметры:
« – Un equipo que planifica y organiza la guerra desde el poder.
– Unos efectivos en ascenso, bien instruidos y pertrechados, capaces de adaptarse a las nuevas formas de lucha y de influir directamente en la implantación de esas formas.
– El incremento de la significación de la artillería y de las armas de fuego portátiles individuales.
– Una adaptación de la fortificación a las nuevas exigencias de la guerra.
Pues bien, en la España de ese periodo, en la de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, en la España de la transición del Medievo al Renacimiento, en la España de los Reyes Católicos, en definitiva, encontramos no sólo la presencia de esos cuatro factores, sino también aportaciones decisivas en unos casos e implicaciones directas en otros, por lo que no se debe desconsiderar la significación española en los orígenes de la denominada revolución militar» [2]. К этому еще добавляют, что «военное применение пороха в Европе началось с Испании» [3], изобретение там же контрмарша и т.д.
По иронии судьбы, едва ли не первым, кто вступится за испанцев, окажется француз. Это уже знакомый нам (Продвинутый уровень. Французский вклад) Рене Кятрфаж – его монография «La Revolución Militar Moderna. El Crisol Español» [4] стала если не первым вообще, то, по крайней мере, первым фундаментальным трудом, приобщившим испанскую армию к священному делу «военной революции». И при таком методологическом ракурсе фигура Гран Капитана предстала в новом свете – как истинного «военного революционера». «Если в какой-то момент и грянула военная революция, то, несомненно, никто иной как дон Гонсало Фернандес де Кордова должен быть признан ее истинным автором», утверждали два авторитетных исп. историка, Меса Гайего и Родригес Эрнандес [5]. «ГK был инициатором, по крайней мере, в тактической области, гораздо более широкого и сложного процесса, в котором сочетались факторы экономического, социального, технического […] характера, известного в историографии как военная Революция» [6]. Но о революционности деяний ГК писали Пьеро Пьери и Клонард еще до того, как это стало «основным течением». Впрочем, у них начало революции связывалось со швейцарцами: «La gran revolución que verificó Gonzalo en el sistema militar de Europa, revolución ciertamente inaugurada por loe suizos; pero en choque todavía con las preocupaciones dominantes, foé la de dar una preferencia marcada á los infantes sobre los caballos» [7].
Есть и такие испанские историки, которые не спешат принимать идею «революции» и задаются вопросом: а был ли мальчик? Т.е. «Pero... ¿hubo alguna vez una revolución militar?» [8], в связи с чем переосмысливается и вклад ГК: «Гонсало де Кордоба считается создателем нашей [испанской] современной пехоты, итальянско-испанской военной школы и терций, а также тем, кто впервые сломил гордость французской кавалерии. Ну, это все кривда, или, по крайней мере, сие не есть вся правда ...»
«Los tratadistas militares convienen unánimemente en alabar la excelencia del arte militar del Gran Capitán, pero es más raro que digan en qué consistía exactamente»
В последние годы про ГК часто выходят сборники статей (приуроченные обычно к очередной круглой дате из жизни героя), среди которых непременно присутствует хотя бы одна про его военный вклад и наследие. Отметим изданные в начале нулевых сборники «Córdoba, el Gran Capitán y su época» и «El Gran Capitán : de Córdoba a Italia al servicio del Rey», в 2015 - спецвыпуск Revista de Historia Militar, сборник и выставка, организованные Министерством обороны, сборник «El Gran Capitán. Una mirada desde la contemporaneidad» и др., в 2018 – «Los Fernández de Córdoba». Несмотря на количественное изобилие, большинство этих сообщений о вкладе ГК в военное дело строится по единому шаблону – вначале об изменениях в военном искусстве Европы, «военной революции» и огромной роли в сем процессе Испанской монархии, затем – биография уроженца Монтильи. Общий восторженный тон статей гениально маскирует вопрос о реальных заслугах собственно ГК – рассказ о них в итоге уменьшается чуть ли не до нескольких предложений (примеры – Мартинес Руис, Керо Родилес). Вместо конкретных ответов читателям в качестве изобретений ГК преподносится, к примеру, вот что:
«una concepción nueva del arte de la guerra» [9]
«Великий капитан вместе с монархами и их советниками были те, кто сумел создать первую армию современности» [10].
«изменил законы тактики и стратегии, установленные с древних времен, чтобы его люди действовали новаторским образом» [5]
«el Gran Capitán fue un genio militar excepcionalmente dotado, que por primera vez manejó combinadamente la infantería, la caballería, la artillería y los zapadores.
Sustituyó la guerra de choque medieval por la táctica de defensa-ataque, que se puso de manifiesto en la defensa de Barletta…» [11]
К счастью, опричь этих уклончивых «катехизисов» мы располагаем трудами реальных исследователей испанской армии в затронутый период, в первую очередь это - Ладеро Кесада и Рене Кятрфаж.
Первый, испанец, начал с тщательного изучения правления католических королей и Гранадской войны, затем вполне логично добрался до войн в Неаполе и Руссильоне [12]. И пусть акцент сделан во многом на финансовой стороне (различными «pagos» забито внушительное приложение из 330 страниц), в книге отражается и событийная канва со множеством цифр, и нюансы организации войск.
Второй, француз, начал с терций времен Филиппа II, чтобы затем сдвинуться в более ранний период [4]. В центре внимания - организационные вопросы и тактика, плюс разобраны ключевые военные события, включая битвы ГК. В приложении – в основном ордонансы. Кятрфаж довел верхнюю хронологическую рамку своего исследования до 1536, появления терций, тем самым полностью раскрыв трансформацию испанской пехоты и генезис системы терций.
Наконец, добавим сюда третьего, итальянца Пьеро Пьери, автора работ по истории Итальянских войн, в частности – огромный сводный труд [13], статьи по битвам [14; 15] и достижениях ГК в военном деле [16]. Пьери отлично изучил источники, что позволило ему сделать ряд смелых предположений, не со всеми из которых можно согласиться (см. ниже).
Вот с таким интернационалом мы по большей части и постараемся разобраться в военном новаторстве ГК.
«Гонсало» пишем, «Никколо» - в уме: ТРАКТАТ САЛАСАРА
Многие из напрасно приписываемых ГК реформ и идей берут свое начало в «Tratado de Re Militari: hecho a manera de Diálogo» [17]. Опус был опубликован в 1536 Диего Саласаром, воевавшим в Италии под началом ГК, в форме диалога между собственно ГК и герцогом де Нахера (нет, ударение все-таки на первом слоге - duque de Nájera). ГК в нем щедро делится своими взглядами на военное дело, распространяется об устройстве войска, боевом порядке, дисциплине и т.д. На первый взгляд, этот трактат должен исчерпывающе раскрыть нам весь гений ГК, однако рано радоваться… На самом деле труд Саласара является переводом-переложением трактатов о военном искусстве различных авторов, главным образом Макиавелли, в чем он и признается в предисловии. Как и «Dell'arte della guerra», «Tratado» составлен в форме диалога и также разбит на 7 книг. Иногда это дословный перевод:
«Лучше сокрушить неприятеля голодом, чем железом, ибо победа гораздо больше дается счастьем, чем мужеством.
Лучший замысел — это тот, который скрыт от неприятеля, пока ты его не выполнил.
Умей на войне распознавать удобный случай и во-время за него ухватиться. Это искусство полезнее всякого другого». [18].
«Mejor es vencer al enemigo con la hambre que con el hierro ; en la victoria del cual puede más la fortuna que el esfuerzo.
Ningún partido es mejor que aquel que está escondido al enemigo, hasta que vos lo hayáis conseguido.
Saber en la guerra conocer la ocasión y tomarla, aprovecha más que ninguna otra cosa» [17]
Иногда перевод с некоторыми изменениями:
«…Все народы при организации своих войск или народных ополчений устанавливали какую-нибудь одну основную войсковую часть, называвшуюся по-разному в отдельных странах, но почти одинаковую по числу людей, ибо в нее входит всегда от 6 000 до 8 000 человек. У римлян эта часть называлась легионом, у греков — фалангой, у галлов — катервой. Швейцарцы одни еще сохранили некоторую тень древних военных установлении и называют эту часть именем (баталия), совпадающим с нашим словом бригада».
«Habéis de saber, que en cada nación en el ordenar su gente para la guerra ha hecho en su ejercicio o milicia un miembro principal, el qual si le han diferenciado en el nombre han variado poco en el número de los hombres ; porque todos lo han compuesto desde seis á ocho mil hombres, y a este miembro los Romanos lo llamaron legión, y los Griegos falange, y los franceses caterva, y este mismo los suizos que de la antigua milicia retienen alguna sombra le llaman conforme a los italianos Batallón, y nuestros Españoles le nombran esquadrón … »
Наконец, есть фрагменты, отсутствующие у Макиавелли. Они могли быть позаимствованы у других «тратадистов» или являются сочинением самого Саласара. В любом случае, при пересказе идей ГК по Саласару всегда нужно в первую очередь обращаться к Макиавелли.
Хотя саласаровский «макиавеллизм» был подмечен давно, еще как минимум в 19 веке, однако не все историки его раскусили, так что «Тратадо» благополучно продолжает служить источником заблуждений об идеях ГК. Так, в ХХ веке автор компилятивного труда о войске Католических королей Лануса Кано приводил мнение, что настоящим автором труда является сам ГК [19], и даже современные нам авторы впадают в тот же грех: например, Энрике Мартинес Руис [20], Леон Бийяверде [21], José Manuel Mollá Ayuso [22]. Иные, не ведая подвоха, все же относятся к трактату с осторожностью: «В трактатах Макиавелли (Об искусстве войны, 1516) и Саласаре (De re militari, 1536) заметна школа Гонсало, хотя было бы неправильно предполагать, что они добросовестно собирают его мысль; достаточно учесть, что они говорят о больших отрядах в 6000 человек, которых у Гонсало никогда не было» [23]
Означает ли это, что содержащиеся в трактате идеи не имеют никакого отношения к ГК? Есть мнение, что их не надо отметать с порога, поскольку и Макиавелли при написании своего произведения тоже находился под влиянием войн ГК, современником коих он был. Кстати, главным оратором у итальянца сделан Фабрицио Колонна. «Quizá no sea descaminado aceptar el cuadro que presenta (Саласар), como exposición de las enseñanzas obtenidas de aquella insuperable escuela de guerra que fueron las dos campañas de Italia; porque aunque esté comprobado que en muchas partes es traducción fiel —y correcta; digamoslo todo— del "Arte della guerra. de Maquiavelo, también es sabido que la ciencia militar del florentino, no venía de otra fuente que del conocimiento del arte y de los hechos del capitán cordobés» [9].
Тем не менее, ниже мы увидим, что приписываемые ГК Саласаром реформы не нашли никакого подтверждения в источниках.
НИ С ЩИТОМ, НИ НА ЩИТЕ: исчезновение escudados (=enrodelados=rodeleros)
Анализируя органику первых терций, военный историк Чарльз Оман удивлялся: «The most striking fact in the ‘tercio’ organization is that we find only pikemen and arquebusiers. There is no mention of the once-celebrated «sword-and-buckler men» whom Machiavelli so much admired…» [24]. Удивление Омана понятно, если учесть особые отношения испанской пехоты со щитом и мечом. При введении «армаменто хенераль» в 1495 оружейный набор, включавший среди прочего «escudo» и «espada», предписывалось иметь двум имущественным классам из трех, причем наименее богатым, то есть большинству. При разделении в 1497 пеонов (на Руссильонском фронте) на три части («tercio»), согласно Сурите, «escudados» шли отдельной категорией наравне с пикинерами и стрелками. Как видим, при образовании терций через 4 десятка лет щитоносцы (или меченосцы, как называли их в нашей дореволюционной литературе) оказались третьими лишними. ГК и здесь всех опережал: escudados, внеся свою лепту в первом итальянском походе, в следующих кампаниях против турок и французов в документах экспедиционного корпуса уже не значатся (см. ниже). Что не мешает исп. авторам при изложении кампаний ГК с гордостью расписывать достоинства этой легкой пехоты. Хвала воздается не только ее применению в рамках «герра герреада» и прочей партизанщины, но и, так сказать, в пику пикам, т.е. в ближнем бою со швейцарской пехотой, когда они с мечом наголо отважно бросались под пики.
«С тактической точки зрения в ближнем бою испанские пеоны, вооруженные дротиками, мечами и щитами - которые в то время сравнивались с римскими легионерами - явно превосходили швейцарских пикинеров» [5]. В подкрепление тезиса обычно приводят восхищение Макиавелли действиями испанских легких пехотинцев в битвах при Семинаре 1503 и Равенне (в обоих случаях ГК не принимал участия). Новшество ГК видят 1) в самой идее действия эскудадос против пикинеров…
«Para romper el frente de los cuadros de piqueros que se habían adueñado del camp o de batalla, Gonzal o recurrió a los pequeños y ágiles combatientes españoles, armados de rodela y cuchillo, los rodeleros <…> Estos mismos rodeleros o escudados podían arremeter a continuación a los alabarderos de la cuarta fila del cuadro suizo, o contra los ballesteros que intentaban cargar su engorrosa arma» [23]; «Против шв. пикинеров ГК использует - в этом новшество - rodeleros или enrodelados, которые проникают в ряды врагов, в том числе не только пикинеров, но и всадников, артиллеристов» [21]. «И ГК сообщит большую роль enrodelados, для резни вражьих пикинеров» [22] .
2) …и в манере самой атаки: «El ataque a la carrera de los rodeleros españoles a la guarnición de los molinos de Atella no fue el primer ataque a la carrera de la historia, pero sin duda ofreció la novedad en el campo de batalla de un ataque con infantería, sin picas y a la carrera. Hasta entonces el ataque correspondía a la caballería, y si no, a los piqueros...» [23].
Еще больший триумфом роделерос супротив пикерос считается битва при Равенне 1512, грянувшая уже после удаления ГК из Италии, когда «многие испанцы, прикрываясь щитами и орудуя кинжалами, пробили себе путь почти до середины вражеского отряда» [25].
Давайте разбираться, против кого именно действовали гранкапитанские «кудесники меча». Смотрим источники об Ателле, 1496:
«(ГК) envió la infantería española con escudos contra los gascones y otras gentes que estaban en guarda de los molinos ya dichos, y después de aquellos otros infantes piqueros que corriesen y acometiesen los enemigos» [26].
«(ГК) envió la infantería española con los escudos contra los ballesteros gascones, y después de aquéllos los otros con las picas que corriesen y acometiesen les enemigos» [26].
Щитоносцы были использованы не против вражеских пикинеров, а против гасконских арбалетчиков. Против швейцарцев действовали свежеиспеченные испанские «пикерос». Возможно, первым это подметил итальянский историк Пьеро Пьери. Разбирая истоки симпатии Макиавелли к легкой пехоте со щитами, он в свое время подробно прошелся по «questa pretesa nuova tattica spagnola» . Вкратце его вывод таков: полноте, господа, никакого ползанья на четвереньках под пики не было! Касательно битвы при Семинаре в 1503, за неделю до Чериньолы, где были разбиты войска все того же д’Обиньи (фартовое место на этот раз его подвело), источники ничего не говорят о проникновении испанцев под вражьи пики с цель причинения тяжкого вреда здоровью их носителей. Слово маэстро: «И почему это откровение [т.е. исп. тактика борьбы с пикинерами] впоследствии не использовалось Консалво ди Кордовa, настолько склонным принимать хорошие предложения и ценить опыт? В Гарильяно, восемь месяцев спустя, испанские пехотинцы выполняют обволакивающий маневр на холме, а внизу, чтобы встретиться лицом к лицу со швейцарскими мужчинами и пикинерами, остались немецкие пикинеры» [15]. Нет здесь никакой «пронырливой» тактики.
Что касается Равенны, следует ориентироваться на первоисточники: «i testimoni oculari della battaglia nulla ci dicono della particolare tattica dei fanti spagnoli, striscianti a terra, armati di coltello. La notizia è in fonti posteriori, come Francesco Guicciardini, Jacopo Nardi e Pietro Martire. Costui pero ne parla come d’uno stratagemma occasionale di Pietro Navarro, il quale avrebbe incaricato « delectos quosdam pedites » di cercare d infiltrarsi fra i nemici « dum longis hastis ab altis humeris certarent utrimque » . Пьери призывал не делать из частного случая – удачной находки Наварро – правило; «un caso del tutto particolare, in cui gli spagnoli tentarono con scarso risultato d'aver ragione delle picche, viene elevato a norma generale e sicura» (См. также мини-дискуссию десятилетней давности www.vif2ne.org/nvk/forum/arhprint/2236769).
Но самое интересное: во втором своем турне по Италии (1501-1503) ГК больше не имел эскудадос. А это значит, например, что встречающееся в научно-популярной литературе о Чериньоле утверждение, будто испанские пехотинцы под началом Паредеса и Наварро (см. схему) являлись щитоносцами и ловко покромсали бедных швейцарских пикинеров ([6], [22], на эту удочку попался и цитированный нами вначале блогер) – бессовестная выдумка. Одним из первых пропажу щитов и мечей заметил француз Кятрфаж при разборе состава испанского войска ГК в 1500 г: «Среди пеших нужно отметить номинальное отсутствие эскудадос, что удивительно [...] Мы увидим, что в начале второй неаполитанской кампании они не будут обозначены в военном учете» [4].
Что ж случилось-то с ними? Испанские историки, что так нахваливают действия этих «проныр», почему-то не склонны говорить о причинах их исчезновения, да и не все еще в курсе, поэтому слово снова Кятрфажу: «Dada la especialización de los otros efectivos, es posible que se hubieran fusionado con los lanceros, futuros piqueros. Pero esta hipótesis plantea la cuestión … poiqué se habría prescindido de un elemento militar que había demostrado sus ventajas tácticas». Да так ли были важны ГК их тактические бэнтахас? Кажется, на французского историка тоже подействовал пиар щитоносцев. Если принять аргументы Пьери о надуманной тактике их борьбы на четвереньках против пикинеров, то становится понятым, что ГК они уже не были нужны в таком большом количестве, как изначально в 1495. Потребовались бы они ГК во втором ит. походе – он бы их себе организовал, подобно тому, как заказал ландскнехтов. Пьери утверждал, что ГК уже после Семинары половину щитоносцев переквалифицировал в пикинеров, во второй же его войне с французами в Италии сохранилась лишь какая-то небольшая их часть.
И ПУЛЯ НЕ ДУРА…
Усиление роли огнестрела считается одной их главных составляющих прогресса военного искусства той эпохи. В этой сфере ГК вменяют в заслугу следующее: «он заменил старые арбалеты в качестве … наступательного оружия новыми аркебузами» и «ключ к терции заключался именно в роли, которую играли аркебузиры, превращенные ГК в настоящую ударную и осевую силу пехоты» [6], «Hasta la llegada del Gran Capitán –especialmente tras su segunda expedición a Nápoles (1501-1504)– ninguna nación realmente había hecho una apuesta por usar armas de fuego portátiles a gran escala en batallas campales…» [5].
Замена арбалетов огнестрелом произошла не столь быстро, как могло показаться. Нельзя не отметить изначально внушительное присутствие ballesteros в войске ГК в его первой экспедиции. Арбалет « пользовался доверием солдат и самого короля Д.Фемандо, который проверил его эффективность в гражданской войне и приказал Великому воеводе доставить его в Италию в хорошем числе » [27]. Из данных Ладеро Кесада следует, что пеоны, дополнительно набиравшиеся в Галисии и Астурии для войны в Неаполе, ровно наполовину состояли из арбалетчиков [12]. Несмотря на симпатии своего короля к этому старому оружию, ГК довольно быстро понимает важность огнестрела. Ладеро Кесада при анализе реляции о составе исп. экспедиционного корпуса в конце 1495 г. отмечает увеличение количества espingarderos и, наоборот, нежелание ГК пополнять ряды арбалетчиков. Эспингардерос уже распределены группами примерно одинаковой численности и в документе подсчитаны отдельно от капитаний пеонов (пехоты). Если вынести за скобки тех пехотинцев, что ГК распределил по гарнизонам, доля эспингардеров среди всех пеонов составляла в тот период почти половину.
Налицо «революционность», однако все тот же Кятрфаж снова критичен к ГК: «Оглядываясь назад, у историка может возникнуть соблазн поверить, что решение, которое в конечном итоге подтвердило превосходство кастильского оружия, было якобы навязано после Семинары, то есть развитие маневренности и огневой мощи. Возможно ли, что будущий Великий капитан сразу понял это? Может, просто, став свободным в своих манерах после возвращения короля Ферранте II в свою столицу…, он решил вести войну, как […] против арабов [в] Испании?» [4]
Экспедиционный корпус 1500 года по-прежнему включал арбалетчиков, но, очевидно, в куда более скромных пропорциях, чем в 1495. Как подметил Кятрфаж, отживающие свой век ballesteros неспроста объединены в документах в одну категорию с копейщиками – еще одной исчезающей разновидностью пехоты. Зато espingarderos уже составляют больше четверти всей пехоты, а если добавить к ним арбалетчиков, то доля стрелковых войск станет еще больше. «Но кто был у истоков инструкций набора? Только ли Правительство...? По предложению или требованию ГК? Вероятно, все вместе» [4].
Пьеро Пьери пошел еще дальше - утверждал, что после прибытия к ГК 2000 ландскнехтов всем остальным его пехотинцам была вручена аркебуза. Да-да, даже копейщикам: «i fanti spagnoli appaiono ora tutti tiratori, ma non arcieri e balestrieri, bensi tutti quanti archibugieri» [14]. По прикидкам Пьери, у ГК при Чериньоле на 2000 пик приходилось якобы до 5000 (!) стрелков; эскадроны Паредеса и Наварро в такой реконструкции предстают двухтысячными массами сплошных аркебузиров (см. схему). Если еще учесть, что аркебузиры были распределены впереди пикинеров, перед нами возникнет прообраз состава и построения будущей терции, только соотношение огня к пике у ГК выглядело гораздо круче – 2,5:1. А если добавить сюда якобы имевший место контрмарш, тогда это вообще революция революций. Подобная идея могла быть навеяна Пьери испанскими источниками о Чериньоле, где сказано, что в схватке пехотинцев Паредеса и Наварро с французами использовались «escopetas» [26] (однако тут же упомянуты и живучие ballestas).
Версия, конечно, интересная и не лишена оснований, но мог ли ГК позволить себе полностью проститься с копейщиками, не располагая пикинерией из своих соотечественников, а только немецкими наемниками? У Суриты [28] есть свидетельство, что при Чериньоле против швейцарцев и гасконцев выступили испанцы «arrojando las lancas, y dardos que tenian». Копейщики еще не сказали свое последнее адьос…
Наконец, ГК приписывают предвосхищение тактики contramarcha. Ну а что такого? Гулять так гулять! Нынче испанские историки яростно оспаривают у голландцев авторские права на контрмарш, утверждая, что де испанские аркебузиры еще при Бикоке, за 70 лет до «вашего Маурисио», опробовали это ноу-хау (на что голландцы стучат пальцем по виску и предлагают оппонентам посмотреть, в чем смысл контрмарша [29]). Жаль, не все испанские авторы знают, что за несколько десятилетий до этих дискуссий уже знакомый нам Пьеро Пьери углядел, на основании описания битвы при Чериньоле в Кроника Манускрита, тот же самый прием с тем же количеством шеренг, который Колонна применит через 19 лет при Бикоке. Впору испанским историкам обновить свои методички…
…И ПИКА МОЛОДЕЦ: «Испанский сюрприз»
ГК восхваляется как полководец, сумевший добиться грамотного взаимодействия на поле боя пики и огнестрела, или, как говорил Пьери, швейцарской и итальянской тактики. Сиречь подсказал правильное соотношение ингредиентов в рецепте для приготовления будущей испанской терции.
«Испанская военная модель импортировала новинки в целом, так как швейцарцы сражались с пиками в компактных и линейных формациях, настоящих амальгамах людей, которые, хотя вместе, практически сражались индивидуально. Немецкие ланскнты ввели эскадроны, развивая тактику, в то время как испанцы продвигали систему дальше, внедряя и интегрируя огнестрельное оружие в комплекс - работа, в которой Великий капитан будет участвовать и применять на практике - то, чему очень скоро будут подражать другие народы» [5].
Пикy – «королеву битв» – испанцы признали де факто в 1497 (войско в Руссильоне) и «присягнули» в 1503 («la gran ordenanza»). Возобладала швейцарская модель, что неудивительно: пикинеры сборной Швейцарии в ту эпоху наводили шорох и не так давно, к вящей славе, несколько раз откупорили Бургундского. Топ-монархи Европы озаботились изготовлением собственной «пиратской» копии или же нанимали оригинал.
Однако в войске, отправленном с ГК в 1495, еще не было пикинеров. Поражение при Семинаре, как считается, побудило ГК обзавестись собственной пикинерией, которая всего через год получит боевое крещение при Ателле. В описании битвы испанские источники уже говорят о наличии у испанцев «piqueros» в противовес прежним «lanceros». Пьери и Хорхе Бигон, возможно, одними из первых обратили на это внимание: против «квадрата» швейцарцев в этой битве действовали не традиционные испанские копейщики, но такие же пикинеры [9] (впрочем, Кроника Манускрита утверждает, что пикинеры использовались против вражеской кавалерии). Другие испанские историки как будто не замечают этот факт и продолжают превозносить ловких щитоносцев, пролезших под пики и сумевших разломать строй противника, т.е. как будто только благодаря их действиям швейцарцы были отброшены [10]. Хотя, по идее, эти историки должны трубить о том, как ГК опередил своих королей и сумел прямо по ходу войны переформатировать копейщиков в пикинеров.
Впрочем, дебют испанских пикинеров, если целиком принять версию Пьери, не был удачным, и для слома квадрата швейцарских пик Великому воеводе понадобилось взаимодействие сразу нескольких видов оружия…
В 1497 г. испанцы начали обучать своих воинов премудростям пикинерной тактики и на другом фронте – в Руссильоне (правда, тогда была принята пика "a la Alemana", а не на швейцарский манер [4]. Почувствуйте разницу). Но существенных полевых битв там не было, и в целом пикинерский строй требовал времени, чтобы привиться. В войске ГК, сформированном в 1500 для кампании против турка и – в перспективе – против француза испанские пикинеры снова отсутствуют. Хотя в реляции о составе войска утверждается, что «лансерос» якобы уже «a la horden de la çuyça» [12], термин «piqueros» применяется только к 2 капитаниям, причем одна из них– аглицкого капитана [4].
Кятрфаж подчеркивает, что разработка «la gran ordenanza» 1503, признавшей власть пики, предшествовала битве при Чериньоле. А это значит, что «no resulta pues aventurado enlazar la adopción del modelo suizo con la experiencia italiana del Gran Capitán» [30]. Хотя причем здесь Чериньола, если ГК еще в первый свой поход столкнулся с необходимостью пикинерии? Только борьба на итальянском театре могла показать испанцам необходимость в «королеве оружия». Во втором своем походе для борьбы со швейцарскими пикинерами ГК уже не привлекает своих копейщиков, а предпочитает трансфер ландскнехтов из Германии. Обращение к забугорным пикам, собственно, и подтверждает факт, что «испанское экспедиционное тело не имело сопоставимых элементов, и что, следовательно, процесс реформ, происходящих в Испании, не зависел от событий в Неаполе» [4]. Здесь, нам кажется, фр. историк несколько упрощает ситуацию, искусственно разделяя два процесса: «приручение» испанцами огня, что происходило в Италии и освоение пики – в Испании.
EL GRAN CAPITÁN или EL GRAN CORONEL?
Другой важный вопрос – о проведенных ГК преобразованиях в структуре войска. «Кордовисты» выстраивают следующую схему: капитании ГК впервые объединили разные виды оружия, а созданные им коронелии стали последним этапом на пути к образованию терций. Ибо, как писал граф Клонард (и некоторые историки это до сих пор повторяют), терции были созданы в 1534 г. якобы из 3 коронелий, а те состояли из 4 рот (прежде звавшихся капитаниями): «En 1534 la infantería española sufrió una reforma de mucha importancia… la formación de los tercios. Cada uno de estos se compuso de tres coronelías, reduciéndose á doce compañías las sesenta que las constituían…» «La infantería que creó se hizo dueña de los campos de batalla durante siglo y medio» [7]. «Коронелии Великого капитана - эмбрионы будущей терции» [6]
Тезис о том, что ГК придумал капитании из 500 человек, где 200 были пикинерами, 200 щитоносцами и 100 аркебузирами, был запущен Саласаром [17]. Опираясь на макиавеллевскую бригаду из 6000, Саласар приписал ГК идею похожего войска - «escuadrón o batallón» (или coronelía, ибо батальоном должен был командовать coronel) из тех же 6000 чел., только с немного измененной структурой: 12 капитаний вместо 10 и силой на 50 чел. больше, меньше щитоносцев и т.д. Зато, например, сохранена идея флорентийца о «действующих» и «запасных» пиках – у испанца они стали называться picas ordinarias и picas extraordinarias. Этот отрывок был некритично воспринят историками более поздних веков, включая Клонарда и Лота. Но авторам 19 века это еще простительно, а вот воспроизведение придумок Саласара как реформ ГК в современных статьях – это уже и смех, и грех. Причем публикуется это не где-нибудь, а в серьезных или полусерьезных журналах и сборниках [11, 21, 22]. Более критично настроенные умы воспроизводили эту выдумку о капитаниях в 500 чел. с осторожностью, например, Альби де Ла Куэста сопроводил ее оговоркой «pero nada indica que esta idea se llevara a la práctica».
В 2000 г. человек по имени Гомес в книге о кампаниях ГК уменьшил численность капитании ГК ровно в 2 раза с сохранением пропорций между пикинерами (100), аркебузирами (50) и щитоносцами (100). Да и коронелия теперь объединяла уже не 12 капитаний, а отчего-то только 6, и, в итоге, стала уже в 4 раза слабее шеститысячного саласаровского эскадрона: «союз шести капитаний сформировал коронелию... Их можно сравнить с нынешним полком. Объединение двух или трех коронелий приведет чрез несколько лет к появлению несравненной Терсио... » [27]. Человек по имени Гомес так и не раскрыл источника этого откровения; возможно, мы наблюдаем попытку подогнать силу капитании под стандарт роты в будущей терции.
Однако важнейший вопрос о том, когда ж ГК организовал эти капитании да коронелии, испанские авторы дружно игнорируют. Если это случилось в первый итальянский вояж, то опыт таких капитаний не получил развития, поскольку в войске 1500 мы видим совсем другой их состав. Если во втором походе, то это маловероятно: ГК уже не имел эскудадос, а пикинеров он привлек извне. Если в мирный период своего наместничества, тогда эти нововведения не были им испытаны в боевых условиях и не являлись фактором его побед.
Обратимся теперь к документам для понимания реальной картины.
В конце 1495 г. в 6 пехотных капитаниях ГК насчитывалось от 50 до 200 человек, в среднем – 100, окромя шести сотен espingarderos, которые в документах подсчитывались отдельно и действовали небольшими группами.
В войске 1500 по-прежнему разброд и шатание: в капитаниях от 50 до 250, причем espingarderos уже подсчитаны в их составе, зато нет эскудадос, не говоря уже о настоящих пикинерах. Последовательного баланса между типами оружия предсказуемо не наблюдается: в одной капитании было всего 4 espingarderos, в другой – 50, в третьей – вообще 130. Ладеро Кесада по этому поводу писал: «очевидно, что единообразная модель формирования и функциональной расстановки пеших войск еще не была достигнута И, ВОЗМОЖНО, ЕЕ И НЕ ИСКАЛИ (капслок наш)» [12].
Однако Кятрфаж подчеркивает состоявшийся прогресс, видя в капитаниях 1501 г. роты в современном понимании. «В отличие от французского значения, в Испании капитания не означает специальной области, а соединение солдат, независимо от их специальности». О существовании коронелии в тот момент еще рано говорить: «похоже, нет подразделения выше или больше, чем капитания…» [12]
Появление коронелии испанские авторы датировали то 1508 [31] или 1509 [32], что уже исключало вмешательство ГК, то 1506 и 1507 [33], что не исключало. Скепсис есть и в отношении того, что эти коронелии выступили прообразами терций [34].
Истину открыл Ладеро Кесада на основании фин. документов 150 года: «также кажется очевидным, что общая организация была реформирована, поскольку капитании уже сгруппированы в коронелии…». Но у коронелий не было фиксированного количества капитаний, равно как и численности последних, «хотя тенденция устанавливать его около сотни кажется очевидной» [12].
Стало быть, ГК в принципе ничто не мешало создать коронелии, только по факту они изначально были произвольным набором капитаний и, что самое главное, не нашли отражения в структуре будущих терций. «La coronelía aparece como un agrupamiento operativo», напоминает нам современный исп. историк Мартинес де Мерло. Он со скепсисом относится к данным Клонарда о 20 коронелях в 1505 г. и, касаясь коронелий в битве при Равенне (1512), констатирует: «por nuestra parte no hemos encontrado en estas coronelías la continuidad histórica de sus líneas de mando aunque algunas compañías pudieran proceder de las campañas del Gran Capitán de 1503» [34]. Иные серьезные историки еще более критично настроены в отношении «исторической роли» коронелий. Например, Кятрфаж в книге про военную революцию назвал их эфемерными, а в книге про терции и вовсе не удостоил их упоминанием. А другой спец по терциям, Альби де ла Куэста, одергивал авторов, сгоряча утверждавших сохранение коронелий в терциях даже в 17 веке [31, c. 38 и 379].
Возвращаясь же к запущенному Клонардом и до сих пор кочующему по всяким журнальчикам [например, оспреевский опус «The Spanish Tercios 1536–1704»] тезису о создании терции в 1534 из коронелий, отметим один нюанс: таинственный ордонанс 1534 до сих пор не найден, а вот дошедшая до нас Ordenanza de Génova 1536 устанавливает почему-то уже 10, а не 12 рот, и в ней нет даже намека на коронелию (поминался «coronel», но применительно только к иностранной пехоте)… [35]
Что касается других родов войск, то и здесь исп. историки стараются приписать ГК новшества. «De la artillería mantendrá una, más pesada y potente aún, para los asedios, cuya acción combinará con el manejo de explosivos, en lo que se especializará uno de sus mejores capitanes, Pedro Navarro. Y organizará otra ligera, a lomo de mulos que acompañará a las tropas y podrá participar en las batallas campales, e incluso en los golpes de mano» [22]. «ГК делает артиллерию легче и более портативной» [21]. Но можно согласиться с Лануса Кано, что «a la Artillería de la época no la daba Gonzalo de Córdoba demasiada importancia» [19].
Еще интересней испанские авторы высказываются по поводу кавалерии:
1) «Durante el siglo XVI la caballería pasó de ser el elemento principal que había sido en los ejércitos la Edad Media a un arma secundaria, usada simplemente para apoyar a la infantería, una de las grandes transformaciones que empezó a poner en práctica el Gran Capitán… После изменения ГК своей военной тактики и адаптировав ее к возможностям и опыту своей армии, ведя войну преследования, стычек и засад, легкая кавалерия нашла свой смысл» [5]. Эвона как, ГК, оказывается, специально превращал конницу во «вторичный род войск»! Может, попросту сыграла свою роль элементарная слабость его кавалерии перед лицом страшных французских жандармов и невозможность выписать из-за рубежа аналог таких молодцев, как удалось выписать ландскнехтов? Доморощенные hombres de armas из созданных недавно Guard(i)as de Castilla, очевидно, не могли тягаться с французами.
Кстати, о тяжелой кавалерии…
2) «Из кавалерии он сохраняет часть тяжелой, но большую часть превратит в легкую, в маврском стиле, и изменит принцип ее использования» [22].
«Тяжелая кавалерия исчезает почти полностью…» [11].
Это справедливо лишь для первой итальянской кампании, где у ГК будет только одна капитания Guard(i)as de Castilla. Во второй уже будет наоборот – одна капитания хинетов, все остальные - омбрэс дэ армас. То есть налицо интерес к «утяжелению» конницы, вызванный необходимостью борьбы с французскими жандармами, что заметил опять-таки Рене Кятрфаж. В ходе второй кампании ГК усилится за счет местной легкой конницы, и доля омбрэс дэ армас упадет, однако если верить Сурите, так подробно расписавшему состав исп. армии при Чериньоле, количество тяжелых всадников будет составлять 40% всей кавалерии. Наконец, в документах о составе войска ГК в 1504, уже после войны, на 8 капитаний хинетов приходится 10 омбрэс дэ армас (если учитывать номинальную численность, будет примерно поровну, т.к. некоторые «тяжелые» капитании включали не 100, а 50 чел).
У Гран Капитана изначально была какая-то тактика, и он ее придерживался
Помимо преобразований ГК в родах войск, историки выискивают революционную тактику в конкретных его битвах. В качестве образца таких действий справедливо приводится в первую очередь Чериньола (см. «Испанский Суворов», параграф «Апрельские тезисы военного революционера»). «В битве при Чериньоле конденсируется большая часть основных тактических принципов, которые будут развиваться в течение XVI века на европейских полях сражений» [6].
Во-первых, согласно эзопову языку генерала Леона, ГК «открыл» землю. Он «использовал преимущество своей местности, заставляя его сражаться с врагом, где он хотел… Земля используется и при необходимости укрепляется, чтобы извлечь все преимущества, которые она предлагает» [10]. Мы стоим у истоков еще одного «отцовства» ГК – как «father of trench warfare».
«Полевая фортификация была возрождена, забвенная со времен римлян. Он заново открыл для себя ценность земли. Именно генерал делал окопы, чтобы подойти к крепости, и ров и посты, чтобы остановить вражескую конницу. Гонсало умел использовать местность, придерживаться ее, изменять ее. Как католические монархи в Гранаде, солдаты Гонсало в Италии стали мотыгами, чтобы копать…» [23]
Во-вторых, при Чериньоле «el dispositivo español era revolucionario» (Кятрфаж). Этот историк, вообще не склонный превозносить ГК и даже иногда подтрунивающий над ним, отмечал акцент на эспингардеров и революционный ввод в действие огневой мощи. Нельзя не согласиться с мэтром. «Организация пехоты в меньших, более мобильных квадратах по сравнению со швейцарскими, что способствует их использованию там, где это наиболее необходимо» [37]. Воистину так. Пьери, кроме того, отмечал новаторство в использовании отряда хинетов по сравнению с прошлыми битвами (см. схему).
Схема Триумф «противотанковой обороны» - Чериньола. Исправленная карта из комикса «La battaglia di Cеrignola» 1987 (отражает реконструкцию П. Пьери).

Кроме того, «есть смена отрядов, аркебузиры пикинерами, контратаки, объятия, атаки на фланги и заканчивается эксплуатацией успеха и преследованием» [22].
Чериньола стала поворотным моментом, потому что она «demonstrated in the most complete fashion the answer to the problem of how to deal with the Swiss infantry square» [38].
В противовес этому победа при Гарильяно, где по факту не было «правильного» сражения и «the game was won this time by "major tactics", not by armament» [24] , было добыта отнюдь не по «революционным» лекалам, о чем писал еще Пьери, фиксируя смущение своих коллег – исследователей военного искусства – пред этой нетипичной битвой («на самом деле битва при Гарильяно сложный феномен, и секрет победы на этот раз гораздо больше в стратегической области, чем в тактической...»).
«ACADEMIA DEL GRAN CAPITÁN»: птенцы гнезда Кордова
ГK до кучи считается отцом-основателем «интернациональной» школы талантливых капитанов, «la escuela hispano-italiana de estrategia». Еще П. Пьери подчеркивал итальянскую основу военного искусства ГК: «Консалво ди Кордова, великий Консалво, сформировался в Италии, когда в нашей стране сошлись различные трансальпийские армии и вошли в контакт различные способы ведения войны, и Италия была гимназией, где война, ставшая искусством, благодаря виртуозности "Condottieri", дала наибольшие возможности для развития, благодаря постоянному разнообразному опыту» [16]. Но Пьери, как истинный итальянец (но не квасной патриот, как это часто бывает у нас), больше «болел» за своих – господ Колонна и Бартоломео д'Альвиано, подчеркивая, что именно их советами пользовался ГК (чего стоит только совет «противотанкового» рва с парапетом при Чериньоле): «Фабрицио и Просперо Колонна, которые приносят в испанский лагерь ценный военный опыт итальянских лидеров».
В последние годы особенно активно эту тему развивал Мигель Алонсо Бакер в серии своих статей. Он разделил военную историю Европы последних 5 веков на 6 «культурных периодов», каждому из которых соответствовали собственные «tipo de pensamiento militar» и «escuela de estrategia». Великие капитаны не возникают поодиночке, а в рамках определенных школ. Первому этапу как раз и соответствует испано-ит. школа, а последнему, кстати, – наша, русская [36].
Исп.-ит. школа сложилась как синтез идей, возникших на ит. земле и подхваченных затем испанцами, и кастильско-арагонской военной традиции. «Lo que los tratadistas denominan «Renacimiento militar» elige a Italia como lugar de encuentro de las propuestas sobre la profesión de las armas que exhibían, por entonces, los más variados signos y muy distintas procedencias». ГК, столкнувшись в Италии с совершенно непривычной ему военной средой, « triunfa porque asimila múltiples enseñanzas y las vierte en el recipiente de su personal formación ibérica».
В рамках этой школы Бакер выделял 3 поколения. Первое из них – современники ГК, всего 9 персон. Не все из них, скажем прямо, усвоили «magisterio prácticо» непосредственно от ГК. Некоторые только-только начинали свой боевой путь при нем и никак не могут рассматриваться прямыми учениками. Из знакомых лиц - Педро Наварро, что до встречи с ГК наварился на пиратстве, стойкий Колонна (ПрОсперо), на котором многое держалось, премудрый ПескАра, победитель при Павии, лев Лейва и другие.
Исп.-ит. школа будет преобладать весь 16 век и загнется только в следующем. Последним ее великим представителем Бакер считает кардинала-инфанта (о нем мы планируем когда-нибудь поговорить в рамках цикла ВИП).
В заключение еще раз подчеркнем, что не все испанские авторы видят в ГК «отца» и «творца» испанского эхерсито. Среди помянутых выделим «умеренных» в лице генерала Леона Бийяверде, уже само название статьи коего «El Gran Capitán, diseñador de la nueva infantería de su época» свидетельствует о смягчении патетики. ГК уже не «изобретает» новое оружие: «Новая пехота, которую моделирует Великий Капитан, организацию и процедуры которой он меняет, координирует все элементы действия и вносит некоторые изменения в вооружение, но не делает больших изобретений, а выполняет то, что было сделано обычно» [21].
Также не все историки отказываются от штампа про «отцовство», просто ищут «родителей» в других действующих лицах. Тогда на авансцену выходят католические короли или их сподвижники, например, еще один Гонсало «де Кордова» (т.е. родом из этого города), де Айора, «военный летописец, разработчик новой тактики пехоты», который в 1504 году «сумел представить образец организации новой пехоты, обученной «a la suiza» и сгруппированной en ordenanza …» (из энциклоп. статьи Ладеро Кесада; напомним, что сам Мигель Анхель в своей книге [12] отнюдь не превозносил ни Кордова, ни Айора). В сторону большой роли католических монархов в процессе «военной революции» клонит Э. Мартинес Руис: «Не стоит отказываться от правления католических королей при анализе процесса военного обновления […] В сем заключается историческое значение Великого Капитана: именно он в значительной степени указывает на жизнеспособность маршрута, который открывался […] пробами и ошибками, как в офисах, так и на полях сражений. Его кампании в Италии дают опыт и результаты, которые заставляют продолжать с уверенностью в успехе» [20].
Еще более категоричен Кятрфаж:
«Así que resulta aventurado enlazar la resoluta opción modernista de España con la experiencia del Gran Capitán. Debemos considerar que la nueva organizacion militar, de la cual fue don Gonzalo quien con tanta perfección la sabría utilizar, salió del esfuerzo reformista inmediatamente decidido tras la conquista de Granada. [...] Esfuerzo concebido y realizado metódicamente durante el decenio que siguió» [39]. «Таким образом, ни дон Гонсало Фернандес, ни Гонсало де Айора не планировали испанскую военную реорганизацию. Когда Фердинанд Католик подписал распоряжение, самое меньшее, что можно сказать, это то, что положение его главнокомандующего в Италии не было примером для подражания» [4]
Характерно, что именно с руссильонским, а не с итальянским военным опытом Кятрфаж связывал появление в 1504 г. «infanteria de la ordenanza», которая и послужит прообразом будущей пехоты терций. Испанский пехотинец в ордонансе начинает зваться «инфант». Это уже не прежний презренный peón, слово, которое в современном испанском обозначает пешку, поденщика, чернорабочего. И мы наблюдаем не просто переименование – то, что в наши дни принято выдавать за коренную реформу. Пеон и инфант – это две большие разницы, в чем совсем скоро и предстояло на своей шкуре убедиться противникам испанской монархии…
Примечания
[1] Jean Chagniot. La Révolution militaire des temps modernes. Уж сколько было наездов на те же терции – испанские историки до сих пор заняты борьбой с нарисованными зарубежными коллегами мифами. Зело больная тема.
[2] Martínez Ruiz Enrique. La aportación española a la «revolución militar» en los inicios de los tiempos modernos
[3] Quero Rodiles. La impronta del Gran Capitán en el ejército español
[4] Quatrefages R. La Revolución Militar Moderna. El Crisol Español. (1996)
[5] Rodríguez Hernández, Mesa Gallego. Del Gran Capitán a los tercios: la herencia de Gonzalo Fernández de Córdoba en los ejércitos de los Austrias (siglos XVI y XVII) // RHM
[6] Jiménez Estrella. Don Gonzalo de Córdoba: el genio militar y el nuevo arte de la guerra al servicio de los reyes católicos
[7] Clonard (Serafín María de Sotto y Abach Langton). Historia Orgánica de las Armas de Infantería y Caballería… t. 3
[8] Meléndez-Valdés Navas R. Pero... ¿hubo alguna vez una revolución militar? Gonzalo de Córdoba y la moderna Infantería española
[9] Jorge Vigón y Suerodiaz. DISCURSO… 1953
[10] Mesa Gallego. El arte de la guerra y el Gran Capitán // Desperta Ferro: Historia moderna, Nº. 19
[11] García Sánchez. El Gran Capitán: el tránsito de la guerra medieval a la moderna
[12] Ladero Quesada M. Á. Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos Nápoles y El Rosellón (1494-1504)
[13] Piero PIERI. La crisi militare nel Rinascimento, Napoli, Ricciardi, 1934
[14] Piero PIERI. Consalvo di Cordova e la battaglia di Cerignola // Archivio Storico Pugliese, V (1952)
[15] Piero PIERI. Guerra e politica negli scrittori italiani. 1975
[16] Piero Pieri. Cordova e le origini del moderno esercito spagnolo. 1954
[17] Tratado de re militari: Tratado de caualleria hecho a manera de dialogo q[ue] passo entre los illustrissimos señores … 1536
[18] Макиавелли Н. Военное искусство. — М.: Воениздат, 1939
[19] Lanuza Cano F. El ejército en tiempos de los Reyes Católicos. Imp. Federico Doménech, Madrid, 1953
[20] Martínez Ruiz Enrique. El Gran Capitán y los inicios de la "Revolución Militar" española
[21] León Villaverde Antonio. El Gran Capitán, diseñador de la nueva infantería de su época
[22] José Mollá Ayuso. El Gran Capitán. Genio revolucionario de la táctica medieval.
О Саласаре и его «разоблачении» см. также: П. Пьери [16] и спецвыпуск RHM 2015
[23] Martínez Laínez y Sánchez de Toca. El Gran Capitán. Gonzalo Fernández de Córdoba
[24] Charles Oman. A History of the art of war in the sixteenth century. London: Methuen. 1937.
[25] Гвиччардини. Перевод М.А. Юсима
[26] Crónicas del Gran Capitán
[27] Martín Gómez. El Gran Capitán, las campañas del Duque de Terranova y Santágelo.
[28] Historia del rey don Fernando el Católico…
[29] Признавая уязвимость исп. аргументов, все же нельзя не согласиться с Ж. Шаньо: «Il faudrait donc dépouiller les sources narratives pour découvrir le foisonnement d’expériences et de stratagèmes dans toutes les armées européennes et asiatiques au xvie siècle avant de célébrer la fameuse contre-marche de 1594»
[30] Кятрфаж Р. Терции. 2015
[31] Альби де Ла Куэста Х. От Павии до Рокруа…
[32] Enrique Martínez Ruiz. El Ejército de los Austrias y sus Ordenanzas // RHM
[33] Francisco Arias Marco. Aclaraciones en torno a las coronelías y los tercios // LA ORGANIZACIÓN MILITAR EN LOS SIGLOS XV Y XVI
[34] Martínez de Merlo. La organización de los Ejércitos en los Austrias // RHM
[35] Клонард ссылался на Лондоньо и Эгилуса. Но свидетельство Лондоньо о трех коронелях в терции лишено хронологической привязки и не подразумевает, как уже подметил Мартинес де Мерло, существование коронелии в качестве структурной единицы. Подробнее о проблеме ордонанса 1534 см.: Mónica GUTIÉRREZ CARRETERO. Recopilación de las ordenanzas militares de los Austrias // RHM
[36] Alonso Baquer M. La escuela hispano-italiana de estrategia // El Gran Capitán : de Córdoba a Italia al servicio del Rey. 2003
[37] Ramos Oliver. Gonzalo Fernández de Córdoba y su aportación al arte militar “moderno”
[38] Mallett. Mercenaries and Their Masters. Warfare in Renaissance Italy
[39] Quatrefages R. Génesis de la España militar moderna
@темы: военная революция, Рене Кятрфаж, Гонсало де Кордова, Гран Капитан, испанская армия, Ладеро Кесада, пикинёрия-аркебузёрия, Пьери, шлахт бай Чериньола, великие испанские полководцы
В конце 1630-х сразу несколько неприятных событий приостановили «динамично развивающуюся» до тех пор военную карьеру молодого полковника Раймондо. И если подозрение (необоснованное?) в воровстве нажитого добра у курфюрста Георга Вильгельма Бранденбургского стоило итальянцу лишь кратковременного ареста, то в мае 1639 г. приключилась более страшная оказия: РМ снова угодил в шведский плен, причем на долгие три года. Имперцы, конечно, пытались вызволить своего обриста, предлагая в обмен не кого-нибудь, а самого фельдмаршала Густава Горна. Однако с шведской стороны Ю.Банер, от которого зависела судьба этого обмена, отчего-то уперся и «включил Сталина», т.е. решил солдат на фельдмаршалов не менять – с той разницей, что это как раз ему предлагали вернуть своего соотечественника-фельдмаршала. Итальянские историки объясняют этот отказ тем, что проницательный шведский командующий якобы уже тогда разглядел в простом полковнике опасного противника. Как бы там ни было, у РМ появилось много времени на передых от военной службы, на размышления и… чтение, поскольку во время плена в Штеттине он спокойно посещал библиотеку.
читать дальшеИменно во время этого периода РМ, словно предвосхищая оформившуюся позже дихотомию «стратегия и тактика», подготовил два своих первых больших трактата: один из них назывался «О войне», второй – «Delle battaglie». О последнем опусе (и его изданиях) и пойдет сегодня разговор.
НАСИЛИЕ, СТРАХ, ИНТОКСИКАНТЫ: американский интерес к РМ
На самом деле у РМ было два отдельных трактата с одинаковым названием Delle battaglie, написанные с разницей примерно в 30 лет. В противовес широко растиражированным «Афоризмам» (см. «Записки против Афоризмов»), оба труда долгое время оставались неопубликованными. Про них наконец-то вспомнили лишь в начале 20 века, но здесь не обошлось без курьеза: в немецком издании трудов РМ оба трактата ошибочно посчитали разными версиями одного труда, решили отбросить раннюю и перевести позднюю. Прошло еще несколько десятилетий, пока историк из США (универститет Олбани) Томас Баркер не устранил эту оплошность в своей книге
«Ратный думец и сеча: РМ Тридцатилетней сваре» [1]
Он не просто перевел первый трактат со своими комментариями, но и рассмотрел военную карьеру РМ в Тридцатилетней войне, а также военное искусство и соответствующую историографию.
Почему же для перевода был избран именно ранний труд РМ о битвах, а не второй? Во-первых, « it is a n excellent m irro r o f th e c h a ra c te r o f com bat in the second decade o f the T h irty Y ears W a r». Но автора интересует не только голимая тактика, но и человеческая природа, в частности, склонность к насилию (« critical analysis o f the text m ay provide clues to u n d erstan d in g the basic n a tu re o f m a nk i n d ’s a d d i c t i o n to v io le n c e , i n d i v id u a ll y a n d c o lle c tiv e ly»).
По мнению американца, значение РМ в европейской истории имеет четыре аспекта, и первый из них – победа на р. Рааб. Баркер на контрасте с принцем Евгением Савойским подчеркивает роль РМ в строительстве армии Габсбургов. При всем при этом, Баркер не считает своего героя «самым блестящим полководцем эпохи». Кто же был блистательнее? Кто-то один не назван, но чуть дальше особо подчеркивается роль в военном прогрессе двух знаменитых предшественников РМ: «Мориц Оранский-Нассауский и Густав Адольф, поздние наследники гуманизма, переняли у Макиавелли и его преемников, особенно Юста Липсия, некоторые теории античных властей в организации и обучении своих армий и в проведении своих кампаний». Значение последующих полководцев, соответственно, оттеняется: «Горн, Банер, Торстенссон, Бернгард Веймарский, Жан де Верт, Валленштейн, Тюренн, Конде и, ласт бат нот лист, сам Монтекукколи, отразили прогресс, с которым связаны имена голландца и шведа». Однако, продолжает Баркер, никто из этих известных воевод, за исключением двух, не имел возможности экспатриантировать эти изменения «for his own benefit or for posterity’s». Первым исключением, по Баркеру, был РМ, а кто был вторым, читатель может сам легко догадаться… Правильно, это он, кто же еще. Прибегая к метафорам, Баркер подчеркивает исключительную способность РМ
Не счел автор схоластическим вопрос о дилемме наука-искусство применительно к войне. Можно ли назвать РМ ученым, или, точнее, можно ли отнести его изыскания о войне к научным? «Он сосредоточил свой ум на внешне дикие и нерегулярные боевые сцены первых сорока лет своего века и разработал теорию от явлений» (© перевод google).
После такого мощного введения читателя знакомят с биографией героя (часть 1 «A life in imperial service»). Баркер работал с архивами и библиотеками Модены, Вены и т.д., однако жизненный путь РМ строит во многом на исследованиях немецких и итальянских историков. Акцент в этой главе сделан на военной карьере и опыте, побудившем Монтекукколи к написанию своего трактата. Затрагиваются и вопросы участия/неучастия и роли РМ в некоторых знаковых событиях войны – будь то трагедия в Магдебурге или сечи при Лютцене, Янкове и т.д. В конце раздела - несколько слов о достижениях РМ в области строительства вооруженных сил Габсбургов. Здесь автору надо бы подытожить личный вклад РМ, и вдруг выясняется, что тема эта еще не изучена. Историки слишком долго увлекались изучением Монтекукколи-теоретика, совсем забыв про него как государственного деятеля, и книга Баркера лишь поддерживает эту тенденцию.
Вторая часть – «Connotations of a Military Career» - теоретическая. Попытка оторвать взор с РМ и оценить его эпоху и общество. Баркер во многом повторяет здесь свою более статью “The M ilita ry Entrepreneur and Absolutism: Habsburg Models”. Несколько абзацев про социально-политическое развитие монархии Габсбургов и зарождение абсолютизма. Далее – про появление нового поколения иностранных «наемников» на службе Императора, главным примером которого (возможно – оговаривается при этом автор) был РМ: «В любом случае именно в контексте зарождающегося абсолютизма, поддерживаемого дворянами и навязанного вооруженными силами, идея иностранного «наемника» приобретает значение ». Опыт с Валленштейном, вероятно, сделал династию [Габсбургов] весьма подозрительной по отношению к местным генералам… ». Пользуясь предложенной Ф. Редлихом концепцией "военного ипэшника" (military enterpriser), Баркер раскрывает ее на примере РМ.
Следующий параграф «Tactical and Strategic Issues» заключает в себе по сути историографический разбор исследований наиболее авторитетных историков и философов, почтивших своим вниманием РМ. Проблематика – в основном вопросы стратегии: действительно ли РМ стоял у истоков школы методизма, в чем суть его спора со Зриньи, развитие двух полярных стратегических концепций в ходе Тридцатилетней войны.
Наконец, Баркер использует социопсихологический подход применительно к "Sulle Battaglie" (параграф «Psychological Elements»). «Цель настоящего раздела - просто выбрать те элементы «Sulle B attaglie», которые имеют психологический оттенок, и предложить, где это возможно, как они могут быть связаны с недавними научными наблюдениями и экспериментами» (© перевод google). В числе прочего разбирается вопрос о мотивации военных групп, однако больше всего внимания Баркер уделяет фактору страха. РМ отлично понимал его иррациональный характер, искал способы борьбы с ним в своих войсках, включая даже употребление «narcotics and intoxicants».
В четвертой части Баркер обращается к 4 битвам, которые «потрясли» и повлияли на РМ (Брейтенфельд, Лютцен, Нёрдлинген 1.0 и Виттшток). Написаны они на основе солидных трудов – от М. Робертса до шведского генштаба, с акцентом на боевые порядки и тактику.
Центральная часть издания – собственно «Sulle Battaglie». Вся книга «Ратный думец и сеча» - по сути перевод трактата с сильно расширенным комментарием и справочным аппаратом. Баркер признается, «Montecuccoli is not an easy writer to put into English». На свой страх и риск Баркер решил при переводе дать имена главам трактата (« Breaking up and labeling the text has not seemed to carry much danger of arbitrariness and perversion of meaning»). Что не так критично, по сравнению с тем, как соотечественники Баркера поступили с «Мечтаниями» Морица Саксонского (см. «И смех и грех: о русском переводе "Rêveries" »). Однако уже известный нам авторитетный издатель трудов РМ Раймондо Лураги отзывался о переводе Баркера не совсем лестно: «la traduzione lascia purtroppo a desiderare, in quanto Barker trovo, nel rendere la prosa di Montecuccoli in inglese, difficoltà ancor-più grandi di quelle a suo tempo incontrate dal Veltzé nel tradurla in tedesco» (ORM. T.1). Это еще Лураги не знал о русских переводах «Афоризмов» РМ…
Для лучшего понимания текста Баркеру пришлось кое-где вставлять от себя целые фразы, удлиняя текст. В другом месте он, наоборот, вынес за скобки основного текста один абзац, ибо счел его интерполяцией, чем вызвал серьезное недовольство Лураги. В целом его перевод близок к оригиналу и лишен переводческих выкрутасов, хотя иногда не без серьезных искажений. Сравните:
1) «A further benefit of such a disposition is that since the troops cannot be attacked, they remain an unknown factor. The mere sight of them does not fail to make the foe suspicious and uneasy. They keep him intimidated because they can always advance when and if they want to».
Оригинал: «Nе potend ’esser attaccate non lasciano però di dar sospetto all'inimico solo col tarsi vedere e tenerlo incomodo, perché possono sempre avanzar quando vogliono, e se l’inimico viene punto a disordinarsi pigliano quel tempo per metterlo totalmente in confusione»
2) «The attackers are lured into chasing the retreating reiters a n d separating themselves from the other corps of their own battle line, and thus they become the prey of the braver contingents which one has previously held back».
Оригинал: «Ovvero essendo posti i soldati più deboli in un corno contro i più forti dell’inimico, et appiccandosi e cedendo, l’ispirino a disordinarsi et a perseguitarli e così separarsi dall’altro corpo della battaglia, la quale rimanga in preda de’ suoi più valorosi».
А вот что приметил Лураги:
3) «There are certain circumstances which give battles a good reputation <…> That is to say, when one side has more horsemen and the other more foot, the former will be unable to set up large battalions and the latter will be unable to engage in extensive pursuit.».
Оригинал: «Le ragioni che fanno esser ostinate le zuffe <…> e quando l’una delle due armate nimiche è forte d’infanteria e l’altra è forte di Cavalleria perché gli uni non possono forar i gran battaglioni, né gli altri possono cacciar lontano i cavalli»
«ОДНАКО ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ОН В ОСНОВНОМ СВЕЛ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКОВОДЦА…» [2]
Оригинал «О битвах» на итальянском наконец-таки был опубликован в 1988 г. Раймондо Лураги в своих примечаниях то и дело восхищался неординарным и опережающим свое время идеям соотечественника: наступательная роль пикинеров, внимание к психологическим факторам, «le considerazioni sulla figura e i compiti del capo militare, che anticipano di quasi due secoli Clausewitz… » и т.д.
На самом деле, среди высказываемых идей РМ есть место и тривиальным, и гениальным, и спорным. На всем протяжении трактата автор обнаруживает себя и как наипрактичнейший тактик, и как эстет войны. Несмотря на свой скромный чин и достаточно молодой возраст на момент написания трактата, РМ легко поднимается в своих рассуждениях до уровня командующего армией и уже с этой высоты, как ровня Густаву Адольфу, Валленштейну и Тилли, разбирает их ошибки и достижения. (Северный лев удостоен похвалы: он оказал большое влияние на РМ; Фридланд оценен в основном положительно, как тот, кто учился на своих ошибках; палач Магдебурга – как маэстро…). РМ очень обстоятелен про «lа scienza del generale», об умениях и обязанностях главкома, о том, как он должен вести себя в бою, что говорить воинам и т.д. О задачах офицеров практически ничего не сказано; разве что лейтенантам велено стоять за эскадронами и выполнять роль заградотрядов, убивая дезертиров и беглецов.
РМ последовательно рассматривает все стадии битвы. Сначала – про условия, при которых можно начать битву нападением на врага, параметры выбора местности и т.д. Разобраны рода войск и достоинства пики и мушкета. Долго и увлекательно РМ расписывает построение боевого порядка. Представлен каждый из пяти видов построения батальонов, в данном случае используется опыт испанских терций - quadro d’uomini, quadro di terreno и т.д. Что примечательно, к числу наиболее прочных построений РМ относит используемые испанцами los dobletes («i battaglioni duplicati»), когда количество рядов в два раза больше шеренг.
Свои расчеты оптимальной численности батальона и эскадрона РМ предваряет очень ценным экскурсом об опыте различных современных ему армий. ОН еще раз проходится по недостаткам больших батальонов и эскадронов («ma i gran corpi hanno queste incommodità...»). Любопытно соотношение «пики и выстрела»: в рассматриваемом РМ войске из 32 000 пеших и конных чел. мушкетеры составляют ровно половину. РМ не просто предлагал обрамлять батальон рукавами мушкетеров, но и сам батальон, помимо пикинеров, «органически» включал шеренгу moschettoni (не путать с мушкетерами - moschettieri). Мушкетерами также следовало разбавить эскадроны («s’aggiunge la moschetteria alla Cavalleria»). В итоге на каждого пикинера приходится почти 3 мушкетера/мушкетона, а на каждых двух кавалеристов на флангах первой баталии (линии БП) – по мушкетеру. Отметим навеянную римским опытом веру РМ в пользу щитоносцев («le targhe fanno un meraviglioso effetto…»), которые проходят у него под 4 разными названиями.
Основу кавалерии РМ видел в «corazze intiere» и «mezze (или altre) corazze», запрещал караколь («questo modo di combattere mal inventato è più proficuo per giuocar …») и доказывал преимущества таранного удара эскадронов над старым построением en haye.
В зависимости от обстоятельств РМ предлагал различные боевые порядки. При этом построение армии в одну-единственную линию решительно осуждалось: « perché tale è la sentenza de’ Capitani migliori; perché l’esempio de’ Romani l’ha dimostrato, e l’usanza moderna lo comprova…».
В «нормальном» боевом порядке РМ - 2 линии. Здесь не обошлось без фирменного воображения РМ: на флангах баталии и кавалерии первой линии предлагалось построить диво дивное – восьмиугольные батальоны с «начинкой» из мушкетеров, причем собственно пикинеров было раза в 3 больше, чем в обычных. Идея подобных геометрических изысков показывает, как серьезно волновала РМ проблема уязвимости пехотных баталий с флангов и устойчивости кавалерийских крыльев. По сути это было «выворачивание наизнанку» обычных батальонов из пик, окруженных мушкетерами: поместив стрелков внутрь батальона, РМ хотел, чтобы они, в случае прорыва врага в тыл, вели огонь по нему поверх своих пикинеров(!). Осудив перед этим массивные построения, например, используемые Тилли, РМ предлагал здесь пусть и менее, но все же неповоротливые и вдобавок замысловатые формации силой в 700 с лишним человек. Правда, в боевом порядке их предусматривалось не так много, но тенденция к «закрытию» всего построения в подобие одного большого «каре», описанного лет через 30 в «Афоризмах», начинает проявляться. Сюда же относятся советы обнести фланги вагенбургом и цепями, равно как и рекомендация расположить «alcuni battaglioni e squadroni lungo i fianchi della battaglia per assicurarli». Опасение за фланги и тыл побуждают РМ пожертвовать подвижностью своего построения.
Кстати, аналогом больших батальонов в кавалерии выступали «эскадронища» на флангах второй линии: РМ желал вместо обычных эскадронов из 150-200 чел. строить по «un grandissimo squadrone» силой, судя по всему, в 500 чел.
РМ насчитывал 5 различных способов построить армию и начать битву. Первый из них – это то, что Клаузевиц через 2 века называет «параллельным сражением», второй – то, что позже разовьется в пресловутый «косой боевой порядок», третий – нечто из фехтования, пятый – примерно то, как позже будет складываться знаменитая битва с турками на р. Рааб 1664 г.
При наступлении на вражеское войско РМ на полном серьезе предлагал использовать специальные «carri», которые Баркер перевел как «the battle-carts» а ля Жижка, но Лураги поправил его и предложил видеть в них бронированные «veicoli», эдакие диковинные бронетранспортеры на лошадиной тяге. Рациональное зерно здесь крылось в задумке таранного, «танкового» удара для расшатывания вражеского строя, не расходуя на это неблагодарное дело тяжелых всадников.
«ТОТ, КТО ОЧУХАЕТСЯ ОТ СТРАХА ПЕРВЫМ, ПОЛУЧИТ ПРЕИМУЩЕСТВО» [3]
Кроме тактика и практика, РМ проявляет себя знатоком души простого солдата. На психологический аспект трактата обратил внимание еще Баркер, а Лураги и вовсе превозносил РМ как военного психолога. Сам прослужив рядовым, РМ понимал солдатские страхи, а потому одну из главных обязанностей полководца видел в диалоге с солдатской массой. Развеять страх можно разными способами, для чего РМ делает философское (в неоплатоническом ключе) отступление о душе. Главком должен внушать солдатам , что «…se l’anima morisse col corpo secondo gli atei, la morte sarebbe desiderabile, ella finirebbe ogni doglia, libererebbe l’uomo da ogni male, tutto il composto si risolverebbe ne’ suoi primi principii; e si come nulla si sentiva prima di nascere, così nulla si sentirebbe dopo la vita; ma poiché l’anima vive più libera e sciolta quand’ella è separata dal carcere del corpo che quand’ella vi è unita, come si può arguire dal sonno, dove giacendo la parte corporea, l’animo agisce più libero e talvolta prevede in sogno le cose future; quanto meno si dee temer la morte ch’è l’uscita dal male, l’eccesso del bene, la fine del finito, il cominciamento dell’eternità e la nascita di un giorno che non ha serа».
Солдатам не следует бояться смерти – жизнь бренна, и никто, сражаясь, не умирает напрасно: «dunque è ben vile quell’anima che fugge i pericoli per il timor della morte, contristandosi di lasciar una vita caduca e transitoria per una perfettamente colma di tutti i beni eterni; e questo timore è indizio sicuro di una vita cattiva, poiché chi ben vive non potendo aver se non buon fine, non ha occasion di temerlo, anzi più tosto di desiderarlo; e se si lasciano dietro a sé in questo mondo amici, parenti e beni, si trovano nell’altro mondo più amici, più parenti e più beni…»
Не довольствуясь чистым внушением, РМ предлагает для солдат допинг, чтобы «наполнить голову горячим и веселым настроением». Это, во-первых, «фронтовые 100 грамм» в виде крепких испанских вин (отмечаем неплохой вкус у РМ), но в меру, чтобы бойцы не напились в хлам и не оказались «incapaci d ’ubbidire e di intendere i commandamenti». Во-вторых, это крепкий напиток на основе определенной травы, таинственный «liquore», рецептом приготовления которого РМ, как заправский кулинар, щедро делится с читателями. Полученная хрень якобы пробуждает в человеке враждебность и подавляет чувство опасности. Кстати, возбуждением одной лишь агрессии дело не ограничивалось, ибо зелье, оказывается, еще и делает бойцов «inclini a’ piaceri di Venere»... В общем, нечто вроде психотропного вещества с дополнительным эффектом виагры.
Вопрос о том, что за дурь имел в виду РМ, вызвал нешуточный интерес у Баркера: американский историк углубился в этимологию приводимого РМ названия вещества на турецком языке и подчеркнул факт проведения итальянцем ботанических опытов в своем замке. Баркер видел у РМ понимание того, что интоксиканты для воинов – это палка о двух концах. Другой наш комментатор, Р. Лураги, подтверждает факт любви к ботанике и считает РМ чуть ли не знатоком токсикологии, впрочем, затрудняется сказать, имело ли упомянутое пойло наркотические свойства.
Одно можно сказать с уверенностью: восьмиугольные батальоны и «бронетранспортеры» РМ задумал явно не под действием этой отравы, и в целом Монтекукколи-прагматико неизменно преобладает над Монтекукколи-фантастико.
* * *
Трактат о битвах вместе с написанным в тот же период «Трактатом о войне» показал итальянца вполне сформировавшимся теоретиком, понимающим войну на всех ее уровнях и во всех деталях. Три года томления в шведском плену, конечно, притормозили рост РМ в чинах, но невероятно продвинули его в плане осмысления современной ему войны. Простой полковник сумел стать крупным ратным мыслителем, и теперь оставалось выяснить, сможет ли он стать полководцем такой же величины…
[1] Barker Thomas M. The Military Intellectual and Battle. Raimondo Montecucculli on the Thirty Years War, Albany, State University of New York Press, 1974. Отнюдь не настаиваем на предложенном варианте перевода
[2] Разин Е. А. История военного искусства
[3] ?
@темы: Баркер, Тридцатилетняя война, Монтекукколи, Лураги


